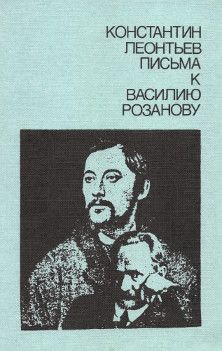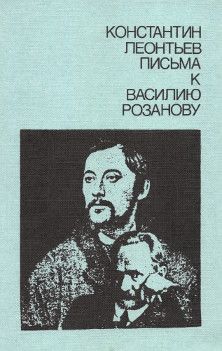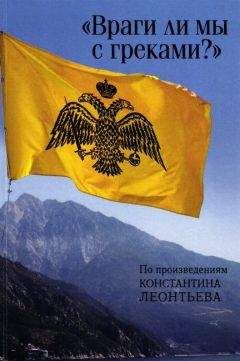Константин ЛеонтьевЛеонтьев - Избранные письма. 1854-1891
Вот видите, как же быть-то? Так ли это, что только простые умы и сердца могут осуществить такое великое дело, как соединение Церквей? Я, заметьте, спорю об основной только мысли Вашей (и Страхова тоже), что высшие религиозные плоды даются только тем людям, которые кажутся нам добродетельными, искренними или «простыми» (как Вы выражаетесь); прибавлю, что это слово «простой» имеет в нашем языке такое множество значений, что его употреблять надо весьма осторожно, если хочешь быть ясным; простой — значит: 1— глупый, 2 — щедрый, 3 — откровенный, 4 — доверчивый, 5 — необразованный, 6 — прямой, 7 — наивный, 8 — грубый, 9 — не гордый, 10 — хоть и умный, да не хитрый. Изволь понять это словечко в точности! За это я его не люблю.
Я спорю здесь только против основной мысли — об исключительном призвании простых людей к решению великих религиозных вопросов, а не о том, нужно ли соединение Церквей и возможно ли оно. Надо на этот раз этот, собственно, более частный вопрос по возможности устранить. (Как слишком трудный и сложный для частного письма). Помнить только не мешает, что пока все наше восточное духовенство и все наши известные богословы понимают и признают только один вид подобного соединения: полное отречение католиков от filioque[848], от единоличной непогрешимости Папы и т. д. Правдоподобно ли это? А если так, то мы с Вами, «послушники» Восточной Иерархии, имеем ли мы право даже и в сердце желать иного соединения? Конечно, не имеем, говоря строго. Но я не скрою от Вас моей «немощи»: мне лично папская непогрешимость ужасно нравится! «Старец старцев»! Я, будучи в Риме, не задумался бы у Льва XIII[849] туфлю поцеловать, не только что руку. Ибо руку-то у папы и порядочные протестанты целуют, а либеральная сволочь, конечно, нет. Уж на что Т. И. Филиппов строгий защитник «старого» православия, но и тот говорит всегда: искренне верующий православный не может не сочувствовать католикам во многом и не может не уважать их и вынужден даже нередко из усердия к своей вере завидовать им. Сверх того, что римский католицизм нравится и моим искренне деспотическим вкусам, и моей наклонности к духовному послушанию, и по многим еще другим причинам привлекает мое сердце и ум, сверх этого я еще думаю, что такой оригинальный (для русских) взгляд, как Влад(имира) Соловьева, и при тех ресурсах, которыми его одарила судьба, не может пройти бесследно. Я уверен даже, что не пройдет. «Богобоязненность» и послушание своему духовенству, Вы знаете, у нас слабы, а жажда нового и в особенности жажда ясного и осязательного у нас в обществе неутолима. Разлюбивши простой, утилитарный прогресс, разочаровавшись в нем, грядущие поколения русских людей не накинутся ли толпами на учение Соловьева, не только благодаря его таланту (или, вернее, гению), но и благодаря тому, что самая мысль «идти под Папу»— ясна, практична, осуществима и в то же время очень идеальна и очень крупна.
В его учении много сторон, но, не распространяясь здесь, предложу Вам поискать об этом в письмах моих Страхову, там есть кратко об этом; не знаю, право, насчет земного благоденствия после соединения Церквей под Папой — как решить: хитрит Соловьев или верует сам в эту химеру? Иезуитизм ли это (весьма ценный и целесообразный в наше дурацкое время) или та «духовная прелесть», о которой я упоминал (в письме)[850]? «Чужая душа потемки»! Из уважения к его уму желал бы думать, что он весьма ловко и даже как бы вдохновенно иезуитствует, но не верит, ибо это глупо. Из желания же верить его сердечной совестливости (так как я его крепко люблю) хотел бы предпочесть искреннее и глупое заблуждение.
Но допустим, что это иезуитизм в том смысле, что он говорит сам себе: «Нынешнему народу скажи просто Церковь, Папа, спасение души — они отворотятся, а скажи, что при посредстве Папы и Церкви на земле воцарится на целое 1000-летие та любовь, та гармония и то благоденствие, о котором вы вот уже более 100 лет все слышите от прогрессистов, а без Церкви и Папы — это невозможно, ибо только через них действует Бог, Которого признавать необходимо и Которого очень многие теперь ищут и жаждут… Скажи так (мечтательно и ложно) — они примут во имя этой лжи и этой мечты и то, что в моем учении возможно, правильно, реально, осуществимо» и т. д.
Допустим, что он так думает; разве с практической стороны он не прав? Допустите еще, что лет через 10–20 его учение (при слабой по-прежнему организации нашей учительствующей Церкви и т. п.) приобретет множество молодых, искренних и энергических прозелитов, подобно нигилизму (тоже ясному) 60-х и 70-х годов. Из общества идеи просачиваются понемногу и в духовные училища, и ко двору. (NB). Мы видели, что в настоящее время хомяковские оттенки (по-моему, неправильные и в некоторых отношениях полу протестантские) просочились уже в духовные академии. А ведь соловьевская мысль несравненно яснее яснее и осязательнее хомяковской[851]. («Любовь», «любовь» у Хомякова; «истина», «Истина» — и только; я у него в богословии, признаюсь, ничего не понимаю, и старое филаретовское и т. д., более жесткое, мне гораздо доступнее как более естественное). Вообразите, что в духовных академиях не удовлетворяются более «сладким» туманом Хомякова и спрашивают себя: «Ну, а дальше что?» Вообразите при этом все большее и большее сближение с католическими славянами; вообразите, что осуществится тот панславизм, которого я так боюсь (не с католической, конечно, а с либеральной стороны; а как удержаться от этого панславизма надолго в случае всеобщей войны и прямой невозможности сохранить более единство Австрии). Вообразите в то же время и на Западе возврат к религии после ужасов социалистической анархии. Не забудьте при этом и наш императорский двор. Это дело первейшей важности! Уже как я слышал, раз входила в Александра Иосифовна[852], в совещание с Вл(димиром) Соловьевым об унии, но он эту внешнюю цель отвергает и говорит, что теперь нужно общественную почву только приготовлять. А вот наш здешний предводитель Оболенский от сочинений Вл(адимира) Серг(еевича) без ума. А младший его брат, Николай Дмитриевич[853], избран государем в спутники и товарищи путешествующему ныне наследнику российского престола. Вообразите только как пример передачу впечатлений и мыслей от брата к брату, а от брата — спутнику молодому и т. п., и т. д., и т. д.
И если таким образом через 20–25 лет те семена, которые он сеет теперь с такой борьбой, с такой, допустим, хитростью и даже несимпатичной злобой, начнут приносить обильную жатву (реальными и здоровыми сторонами учения), то разве не простят ему все его извороты или его мечтательные бредни?
«Гармонии» а lа Достоевский, «всеобщей любви», конечно, не будет (для этого, как справедливо сказал в «Русском обозрении» Ионин и как я давно думал, надо нам «химически»[854] переродиться); «молочные реки» и тогда не потекут в «кисельных берегах»— это все чушь, противная и здравому смыслу, и Евангелию, и естественным наукам даже. И если совокупность всех выше перечисленных условий приведет (например, все это) к соединению Церквей под Папой, то скорее может случиться, что русские, в одно и то же время столь расположенные к мистическому подчинению и столь неудержимые в страсти разрушать, столь бешеные, когда они одушевлены, скорее, говорю я, может случиться, что эти русские паписты не только не будут кротки, как советует им зря Владимир Сергеевич, а положат лоском всю либеральную Европу к подножию папского престола, дойдут до ступеней его через потоки европейской крови. (…)
И тогда разве не простится ему и ложь его? Простится, мой друг! Да еще скажут: «Великий человек! Святой мудрец! Он сулил журавля в небе, но он знал, что даст этим нам возможную синицу в руки!» И если кто (предполагаем в случае успеха) скажет тогда: «Он не хитрил, он сам заблуждался и мечтал о невозможном»… на это ответят: «Тем лучше. Это трогательно».
От деятельности всех истинно великих умов и характеров остается нечто прочное, а то, что имело более косвенное и преходящее значение, скоро пропадает. Победы Наполеона 1-го имели косвенное и преходящее значение, ибо цель его — господство Франции над всей Западной Европой — не была достигнута; но, знаете, благодаря чему вот уже скоро 100 лет, как будничная жизнь Франции (полиция, суд, отношение собственности, торговля, промышленность, весь строй административный) считается образцовой с точки зрения порядка? Благодаря тому, что во время Консульства и Империи (т. е. в течение каких-нибудь 15 лет)
Наполеон между двумя войнами находил время устраивать эту ежедневную жизнь на новых, данных революцией началах всеобщего гражданского равенства. Этого равенства в то время нигде, кроме Франции, не было, и на этом «песке» равенства (как Наполеон сам говаривал) приходилось все утверждать; он это сделал, и какова ни была дальнейшая будущность Запада и человечества вообще, приходится признать, что с его времени ни одна другая держава не может у себя производить эгалитарных реформ без сознательных заимствований и невольных подражаний демократическим порядкам Франции. И у нас тоже все «благодетельные» реформы, за незначительными оттенками, суть реформы наполеоновской Франции. Значительно у нас только то, что крестьянские земли сделаны не то что совсем неотчуждаемыми, а трудно отчуждаемыми, и теперь государственная мысль колеблется между риском постепенного обезземеления мужиков и смелой решимостью объявить их земли раз навсегда государственными и неотъемлемыми; это действительно своеобразно, остальное же в реформах наших почти все чужое и более или менее французское. (Увы!)