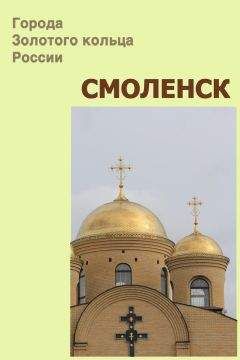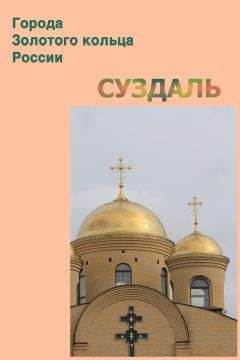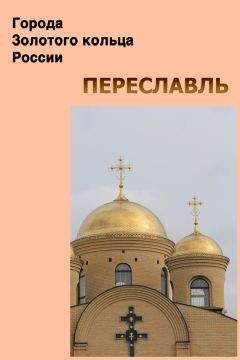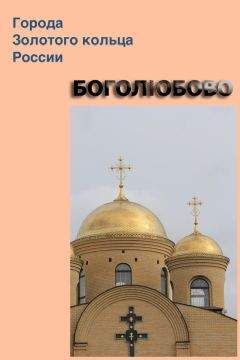Кэролин Стил - Голодный город. Как еда определяет нашу жизнь
Если относиться к нам, как к негодным мальчишкам, ворующим конфеты из вазочки, результата не будет. Причина ожирения не только в том, что именно мы едим, — эта болезнь неразрывно связана с самой сутью нашего образа жизни. Оно — телесное выражение нашей лишенной корней, индустриализированной кулинарной культуры, в которой еду не ценят и не понимают, а значит, и злоупотребляют ею. Чтобы побороть ожирение, надо переоценить все аспекты этой культуры, со всеми вытекающими последствиями. Нам придется поставить под сомнение всю жизнь в наших городах: то, как мы их проектируем и строим, как мы в них обитаем и едим.
Сто лет назад американцы превратили свое поразительное многонациональное кулинарное наследие в жуткую, кастрированную и крайне нездоровую кухню. Теперь нам надо обратить процесс вспять. Мы должны вернуть себе связь с культурой еды и вспомнить, что вообще означает еда. Когда размышляешь о ней, всегда существует опасность впасть в ностальгию по прошлому, по старым добрым временам, которых, возможно, на самом деле и не было. Тем не менее мы можем многому научиться у истории. История застолья полна не только несправедливости, обмана и снобизма, но и наслаждения, товарищества, радости. Одним словом, застолье — отражение самого общества. Игнорировать его влияние — значит отрицать нашу человеческую сущность.
Совместная трапеза недаром представляет собой самый сложный социальный механизм, созданный человечеством. Именно в этом контексте больше, чем в любом другом, мы проявляем себя как общественные животные. Именно тут мы осознаем нашу глубинную связь с землей, морем и небесами. Никто пока не знает, какой должна быть прочная кулинарная культура постиндустриальной эпохи, но сейчас самое время это выяснить.
ГЛАВА 6 ОТХОДЫ
Если бы насосная станция Кросснесс была собакой, она была бы дворнягой, помесью очень многих пород. Это большое и грузное здание на пустынном берегу Темзы неподалеку от Темсмида построено из светло-бурого кирпича с неприятным желтоватым оттенком, на фоне которого выделяются краснокирпичные детали отделки. В архитектурном плане круглые арки над окнами, резные капители колонн и зубчатый фриз, опоясывающий все сооружение, намекают на романский стиль, в то время как безапелляционное объемное решение и выпирающие угловые опоры скорее уж напоминают локомотивное депо. Если обойти сооружение кругом, архитектурные противоречия становятся еще более необъяснимыми. Вместо ожидаемого запущенного хоздвора там обнаруживается регулярный парк в духе итальянского Ренессанса, с симметрично расположенными клумбами, посыпанными гравием дорожками, кедром и павильонами на постаментах с обоих концов.
Странно, очень странно. Но полное и окончательное недоумение охватывает лишь внутри здания. То ли это собор, то ли цех — многоуровневое пространство оживает в таинственном свете выступающих над кровлей окон, который пробивается через стальные хитросплетения высоко над моей головой. Каждая часть огромного зала как-то украшена. На стенах — декоративная кирпичная кладка, на полу — узорчатая плитка, а железные экраны, решетки, лестницы и балюстрады соперничают в затейливости художественной ковки: их растительные орнаменты, раскрашенные в красный, золотой и зеленый цвета, накладываясь друг на друга, создают ощущение полного визуального сумбура. В центре зала — как бы в средокре-стии собора — железная решетка под потолком разрывается восьмиугольным атриумом: каждая из его ажурных граней представляет собой массу изумрудно-зеленых кованых листьев, среди которых выделяются выкрашенные красным вензеля Столичного управления коммунального хозяйства (MBW — Metropolitan Board of Works). В этой металлической чаще можно не сразу заметить главные сооружения во всем зале, но стоит обратить на них внимание — и глаз уже не оторвать. По углам громоздятся четыре ржавых железных гиганта, чья молчаливая мощь ощущается даже в нынешнем неподвижном состоянии. На их фоне буйство богатого декора стихает, как возбужденная болтовня на светском рауте, когда в комнату входит какая-нибудь знаменитость. Знакомьтесь: перед вами паровые насосы «Виктория», «Принц-консорт», «Александра» и «Альберт Эдвард» — четыре крупнейших вращательно-балансирных механизма в мире2.
Если вы вдруг не знаете, что такое вращательно-балансирный механизм, поясню: это агрегат, где усилие на одном конце качающегося рычага передается для выполнения работы на другом конце, а для регулирования движения применяется маховик. По сути, это аналог нефтяных вышек-качалок, чьи ритмичные движения хорошо знакомы поклонникам сериала «Даллас» по заставке, где они неустанно извлекают нефть из недр техасской пустыни. Лучше всего такие механизмы подходят для поднятия больших объемов жидкости, а в случае с четырьмя королевскими особами из Кросснесса эти объемы были и вправду весьма велики. В свой звездный час в конце XIX столетия каждый из тринадцатиметровых рычагов весом в 47 тонн мог одним движением поднять шесть тонн жидкости, а таких движений совершалось по одиннадцать в минуту. Правда, качали они не нефть, а то, что некогда грозило ввергнуть крупнейший город мира в безнадежный зловонный паралич — сточные воды.
К началу правления королевы Виктории Лондон был столицей самой большой и могущественной империи в истории человечества. Под его властью находилось более 20% поверхности суши и четверть населения планеты. Но у этой великой мировой столицы имелась серьезная внутренняя проблема. В городе никогда не было последовательной политики в области утилизации отходов, и 2,5 миллиона его жителей по-прежнему обслуживала канализационная система, не изменившаяся со времен Средневековья: по сути, она состояла из Темзы, нескольких ее вонючих притоков и примерно 200 ооо вечно переполненных выгребных ям3.
С собственными отходами не мог справиться отнюдь не только Лондон. В большинстве городов доиндустриаль-ной эпохи преобладал не упреждающий, а догоняющий подход к утилизации отбросов. В отличие от продовольственного снабжения, где даже суточный сбой приводил
к хаосу, мусор мог накапливаться годами, а то и столетиями, прежде чем превратиться в серьезную проблему. Отчасти это было связано с тем, что большую часть отходов в доиндустриальном городе составляла органика. Она не добавляла улицам опрятности, но зато воспринималась как ценнейшее сырье. В период, который историк Дональд Рид назвал «золотым веком городской экологии», выбрасывалось совсем немногое — напротив, чем сильнее было зловоние в городе, тем богаче он считался4. Остатки пищи скармливались свиньям, экскременты людей и животных шли на удобрения, моча и закисший навоз использовались в целом ряде ремесленных производств, например в красильном деле и изготовлении бумаги. Ту небольшую часть мусора, которая была непригодна для дальнейшего использования, сбрасывали в реки или отвозили на свалки на городских окраинах. По крайней мере в теории дело обстояло так. На практике же большинство людей просто выбрасывали отходы на улицу — этот обычай, по крайней мере в небольших городах, вовсе не был таким антиобщественным, как нам теперь кажется: многое из выброшенного могло быть потом собрано и с пользой приспособлено к какому-нибудь делу.
Однако по мере разрастания городов их саморегулирующиеся экосистемы начали давать сбой. В XIV веке население Ковентри выросло до ю ооо человек (это был четвертый по величине город Англии), и, судя по количеству соответствующих распоряжений муниципалитета, проблема мусора встала там со всей серьезностью. Хотя испражнения людей и животных высоко ценились в качестве удобрения, их количество в больших городах часто превышало спрос, в результате чего улицы покрывались слоем зловонной жижи, а сточные канавы забивались. В Ковентри городской совет отреагировал на эту проблему таким решением: «Отныне всем горожанам запрещается мести улицы в дождь, чтобы не отравлять реку отбросами и нечистотами»5. Схожими распоряжениями запрещалось промывать внутренности животных и делать иную «грязную работу» на рынке, а мясникам предписывалось забивать скот только в закрытых помещениях. Кроме того, выливать на улицу оставшуюся после чистки рыбы воду разрешалось только после наступления темноты (не совсем понятно, как это могло ослабить ее вонь).
Если уж в Ковентри «отбросы и нечистоты» превратились в помеху, то легко представить себе, что творилось в Лондоне — городе, где жителей было в десять раз больше6. У типичного дома в столице не было выгребной ямы или заднего двора, поэтому мусор, в больших количествах выбрасывавшийся на улицу, включал отбросы самого разного рода — от пищевых очистков до содержимого ночных горшков. Городу приходилось привлекать сотни профессиональных уборщиков для сбора и вывоза всего этого либо в компостные ямы на окраинах, где отходы сбраживались в навоз, либо на специальные пристани, где они перегружались на баржи, сплавлялись вниз по реке и сбрасывались в воду. Как и в Ковентри, борьба властей за чистоту находила отражение в потоке распоряжений, начиная с задавшего тон на столетия вперед документа 1357 года, предписывавшего жителям «убрать с улиц и переулков города всех свиней, а также всю грязь, дрянь и дерьмо... и впредь содержать улицы и переулки в чистоте»7.