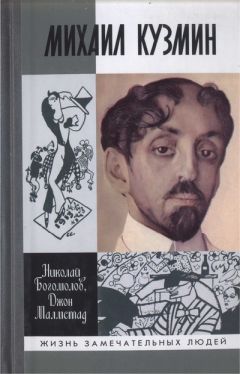Николай Богомолов - Михаил Кузмин
Внешне ему наиболее близка позиция брюсовская, основанная на принципах «эстетизма», понимаемого как стремление к максимальной независимости художника от идеологических канонов, будь то идеология какого-либо общественного движения, религиозная или мистическая: «Мы знаем только один завет к художнику: искренность крайнюю, последнюю»[32]. Поэтому именно Брюсову Кузмин может пожаловаться: «Сам Вячеслав Иванов, беря мою „Комедию о Евдокии“ в „Оры“, смотрит на нее как на опыт воссоздания мистерии „всенародного действа“, от чего я сознательно отрекаюсь, видя в ней, если только она выражает, что я хочу, трогательную фривольную и манерную повесть о святой через XVIII в.»[33]. Конечно, принять на веру такое утверждение об «отречении» невозможно, ибо в «Комедии о Евдокии из Гелиополя» отчетливо звучат и мотивы, которые давали Иванову возможность трактовать ее именно так[34], но для нас сейчас важно, что откровенное идеологизирование, наложение на произведение некоторой внешней сетки координат всегда представлялось Кузмину ничем не оправдываемым насилием.
Однако и с Ивановым он поддерживал отношения самые дружественные и до известной степени творчески близкие. Иванов делает Кузмина участником своих литературных замыслов, держит корректуру книги его «Комедий», выходившей в издательстве «Оры», Ивановым же и организованном[35], постоянно следит за его творчеством, стараясь повлиять на замыслы Кузмина уже при самом их становлении[36]. Лишь в 1912 году Кузмин решительно разойдется с Ивановым.
Будучи одним из писателей круга «Весов», Кузмин тем не менее сохраняет вполне доброжелательные отношения и с «Золотым руном», и с «Перевалом» — отъявленными противниками «Весов». Оставаясь другом многих художников «Мира искусства», он в то же время заслуживает глубокую симпатию живописцев «Голубой розы», для которых Бенуа или Сомов были «старичками, из которых, кажется, уже сыпется песок»[37]. Участвуя в замыслах Мейерхольда, он не оставляет мысли о глубоко традиционном театре. И такие примеры можно множить и множить.
Укреплением своих позиций в артистическом мире Петербурга (а тем самым — и всей России) Кузмин был озабочен на протяжении всего 1907 года, напряженно следя за откликами на новые свои произведения, появлявшиеся в журналах и альманахах. Верный друг В. Ф. Нувель регулярно сообщал ему о битвах, ведущихся вокруг его творений[38], на что Кузмин откликается лениво и почти хладнокровно, однако по сути дела весьма заинтересованно и демонстрируя прекрасную осведомленность и понимание сути полемики.
В центре споров в это время оказывается повесть «Картонный домик», тесно с ней связанный цикл «Прерванная повесть» и «Комедия о Евдокии из Гелиополя» (первые две вещи были напечатаны в альманахе «Белые ночи», пьеса же — в ивановском сборнике «Цветник Ор»). После шумного литературного скандала окончательно определяется место Кузмина в современной литературе — место несколько сомнительное, однако совершенно особое и весьма заметное. Вокруг его произведений ломают копья не только удалые газетные критики, но и такие писатели, как Андрей Белый, Блок, Зинаида Гиппиус, Брюсов. Его отречения от «Золотого руна» добиваются «Весы»[39], а издатель «Руна» Н. П. Рябушинский готов многим пожертвовать, чтобы его участие в журнале возобновилось. Рассыпается в любезностях редактор «Перевала» С. А. Соколов, ищут сотрудничества киевский журнал «В мире искусств», альманах «Проталина», детский журнал «Тропинка», разные газеты. Мейерхольд пробует заинтересовать его комедиями В. Ф. Коммиссаржевскую (она, впрочем, остается холодна и отказывает). В конце 1907 года премьера блоковского «Балаганчика» с музыкой Кузмина становится событием сезона и — что было понято не сразу — событием всей театральной жизни России XX века.
Своего рода вершина этой популярности — появление весной 1908 года первого сборника стихов Кузмина.
2Как и большинство поэтов начала XX века, Кузмин выстраивал сборники своих стихов так, чтобы они представляли этап пути в искусстве. Книги могли быть более или менее удачными, могли по-разному встречаться критикой, но в любом случае знаменовали эпоху в развитии творческой личности.
«Сети», как поэт озаглавил свою первую книгу, собирались из больших блоков, ранее в значительной степени опубликованных, но собирались так, чтобы предстать в совершенно новом качестве, чтобы создалась картина совершенно иная, чем при отдельном их восприятии. И потому особую роль в складывании сборника начинала играть его композиция.
«Сети» состоят из четырех частей, но четвертая, «Александрийские песни», не участвует в развитии лирического сюжета и является своего рода приложением к сборнику, тогда как первые три составляют целостную картину, что далеко не всегда воспринимается читателями и критиками. Попробуем проследить, как эта картина возникает на наших глазах из отдельных стихотворений, целостных циклов, а затем и частей книги[40].
Первая часть включает в себя циклы «Любовь этого лета», «Прерванная повесть» и «Разные стихотворения». Если отбросить последний, действительно составленный из стихотворений, не складывающихся в сюжет, то довольно легко будет определить основную тему этой части, тему неподлинной любви, оборачивающейся то разочарованием, как в «Любви этого лета», то прямой изменой, как в «Прерванной повести». О самих разочарованиях и изменах непосредственно из текстов мы не узнаем, они остаются для нас по ту сторону слов, однако сами переживания, вошедшие в стихи, рисуют картины весьма выразительные. Так, плотская страсть в «Любви этого лета» все время воспринимается на фоне то прощания, то воспоминаний о прежних поцелуях, то разлуки и забвения… Конечно, трагизм этих стихов на передний план не выходит, господствует чувство благодарности за подаренную близость, пусть даже она оказывается минутной. Но сложность чувства не должна быть упущена, чтобы мы не оказались в плену традиционного отношения к этим стихам, на которые часто смотрят лишь как на предельное воплощение «духа мелочей, прелестных и воздушных». На деле же в них соединены полет и приземленность, легкость и тяжесть, беспечность и мудрость, что вообще является отличительной чертой всего творчества Кузмина.
Возьмем всего лишь одну строфу из первого, наиболее прославленного стихотворения «Любви этого лета» и попытаемся увидеть эту сложность.
Твой нежный взор, лукавый и манящий.
Как милый вздор комедии звенящей
Иль Мариво капризное перо.
Твой нос Пьеро и губ разрез пьянящий
Мне кружит ум, как «Свадьба Фигаро».
Строфа стремительно летит, не оставляя читателю много времени для раздумья, и он успевает уловить лишь опорные слова: «нежный взор», «милый вздор», «нос Пьеро», «кружит ум»… И комедии Мариво с моцартовской оперой (которая регулярно исполнялась самим Кузминым и его друзьями именно в те недели, когда замышлялся и начинал создаваться цикл) должны привести на память читателю ту восхитительную легкость, с которой связывается наше представление о «Свадьбе Фигаро». Одним словом, вспоминается пушкинское: «Как мысли черные к тебе придут, Откупори шампанского бутылку Иль перечти „Женитьбу Фигаро“». Но ведь и поэт, и его читатель не могут не отдавать себе отчета, что, вызывая в памяти пушкинские слова, они тем самым вспоминают и то, откуда эти слова взяты, а стало быть, и всю проблематику «маленькой трагедии». Тень от этих воспоминаний неминуемо ложится на приведенные строки, а значит, и на все стихотворение, а от него — на весь цикл. И эта тень не остается мимолетной, она поддержана ощущениями (то выраженными в словах, то лишь подразумеваемыми) от других стихотворений. Таково, например, завершение четвертого:
Наши маски улыбались,
Наши взоры не встречались
И уста наши немы…
Вместо лиц — маски, взоры отвращены друг от друга, уста замкнуты молчанием — именно так завершается «ночь, полная ласк». Стало быть, и персонажи стихотворения становятся не равными самим себе прежним:
Пели «Фауста», играли,
Будто ночи мы не знали,
Те, ночные, те — не мы.
Страсть превращается в неподлинную, обманывающую, таит за собою измену и постоянное недоверие, пусть даже протагонист цикла и пытается убедить себя:
Ну что ж, каков он есть, таким
Я его и люблю и принимаю.
Цикл завершается на почти счастливой ноте, однако если попробовать представить себе дальнейшее развитие событий, то мы увидим, что вся логика совершающегося ведет к одной неизбежной развязке: мимолетная любовь должна окончиться, чтобы дать место другим переживаниям.