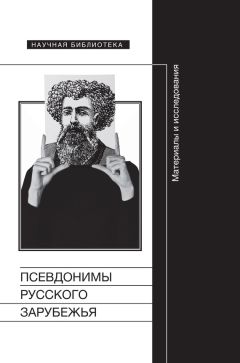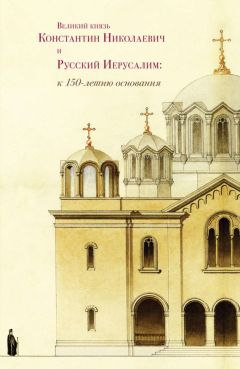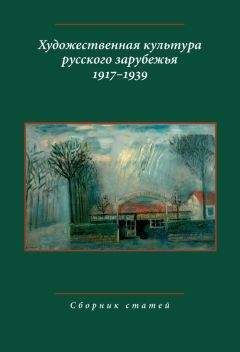Вольфганг Киссель - Беглые взгляды
Роболи относит Карамзина, который остается исключительным явлением в истории русских травелогов, к направлению Дюпати. Вахтель, напротив, подчеркивает, что яркой приметой особенно удачных травелогов модерна является противоречивое смешение двух типов, выделенных им безотносительно к Роболи, но в очень сходном ключе. В качестве парадигматических примеров он приводит «Путешествие в Арзрум» Пушкина и «Путешествие в Армению» Мандельштама (1930):
[…] works based on the experience of travel have generally fallen into two categories: those that use the travel situation to impart factual information, and those that use it as an excuse to speak of anything but the specifics of the journey. These two possibilities correspond to the agendas of what could be called the non-literary and the literary travelogue respectively: in the context of modern European literature these two genres exist simultaneously and are fundamentally in conflict[465].
Если принять во внимание эту дифференциацию между двумя перемежающимися или же конкурирующими тенденциями, то возникает вопрос об их соотношении в советских травелогах середины 1930-х годов. Анализируя два круга проблем, можно ответить на вопросы: 1) как концептуализировались путешествие и путешественник по сравнению с традицией европейского модерна; и 2) как изображалось в травелогах пространство путешествий в качестве подлинного их объекта.
IV. Модернистский vs. сталинский путешественник середины 1930-х годовAny journey can be conceived in terms of the categories of escape and discovery. The traveler excapes his quotidian surroundings and leaves the frustration of everyday life behind. New and constantly changing horizons — [ «беглые взгляды» — С. Ф] — unfold, and the unexpected becomes a daily occurrence: the traveller can even assume a whole new personality. The journey is inevitably experienced in a context of contrast; the new world is always compared to the world left behind[466], —
пишет Э. Вахтель. Он касается сразу многих аспектов понимания путешествия в европейском модерне: индивидуальной свободы, бегства от повседневности, любопытства и интереса к чужому, беглости впечатлений, встречи с чужим, неожиданным, отчуждением от своего, трансформации личности и идентификации путешественника, познания контрастов и их сглаживания сравнением.
Для модернистского европейского понимания путешествия (как и для литературного жанра путевого очерка, сложившегося в XVIII веке) была существенна определенная концепция индивидуума и вместе с тем такие связанные с ним ценности, как формирование личности, свобода, рефлексивная креативность, познание мира и создание своего благодаря отражению в чужом, культурная самоинтеграция индивидуального Я посредством образовательного путешествия в европейское пространство культуры и памяти. Литературный жанр путевого очерка по-разному служил наглядной иллюстрацией этих ценностей. С одной стороны — в связи с современным концептом индивидуума, строения субъекта, с другой — в связи с пониманием и признанием культурной ценности чужого.
С этим, сложившимся еще в XVIII веке, пониманием путешествия его советское понимание середины 1930-х годов связывает, по сути, лишь центральный пункт: точка зрения, согласно которой путешествие служит далеко идущей трансформации путешественника или же протагониста (например, во время путешествия он должен стать полноценным представителем своей культуры). Ведь и цитированная выше критика описательных очерков требует превратить именно этот аспект в главный предмет изображения. Однако в советском случае путешественник понимается не как самоценный индивидуум, а под трансформацией подразумевается конструирование отнюдь не индивидуального субъекта, а советского героя — он становится личностью через отказ от индивидуальности[467] и достижение коллективной идентичности. Так, например, в «Челюскиниане» Сельвинского командир Шмидт только потому герой, что слит с народом.
Если путешествие традиционно предполагает свободное решение индивидуума и связано с временным уходом из повседневности, то это в принципе не относится к советскому путешествию середины 1930-х годов. Здесь речь идет, с одной стороны, практически о командировках, путешествиях по заданию какой-либо инстанции и, наконец, государства (соответственно Сталина); с другой стороны, эти задания подразумевают существенный этап в карьере командируемого. В Советском Союзе середины 1930-х годов «путешествиями» считались все виды командировок в любое место — будь то социалистическая стройка, охрана границы, инспекция в составе писательской бригады или же карательная ссылка в трудовой лагерь великой стройки.
Начало 1930-х годов, когда многие еще путешествовали от стройки к стройке из энтузиазма, воодушевления, декадентского удовольствия от цыганского бродяжничества и из чистого любопытства, уже в 1934 году казалось странным и оценивалось негативно[468]:
Железные дороги не успевают перевозить всех людей, кочующих теперь [1931] по стране. Тот, кто едет без надобности, ждет по несколько суток. […] Это производственная богема первой пятилетки, странные люди, развозящие со стройки на стройку хвастливые анекдоты […] Необычная смесь рвачей и энтузиастов[469].
— А нам куда деваться, — ворчит лохматый парень […] Он «хочет посмотреть мир», расспрашивает о китайцах и о том, большое ли расстояние от Чукотки до Америки. […] Если вы вызовете его доверие, он скажет хмуро: «Папашу кулачат… […]»[470].
По «боевому приказу» второй пятилетки[471] «путешествуют» только с точно определенным заданием. Главным признаком нового странствия становится отсутствие отличия между путешествием и повседневностью. Если прежде путешествие рассматривалось как исключительная ситуация, то теперь и нормальная жизнь воспринимается как путешествие — исключительная ситуация на долгое время. По поводу фильмов 1930-х годов Евгений Добренко пишет о типичной бездомности и безбытности: вне зависимости от того, где люди находятся, они спят не раздеваясь, во временных бараках, всегда наготове отразить потенциального врага; они мерзнут и почти голодают[472].
Главной мотивацией всех европейских путешествий начиная с Нового времени был интерес к чужим краям. Чужое выступало в культуре любознательных людей как подлежащее «исследованию», в качестве самой высокой ценности. Но это касалось только культуры знатоков и теряло значение там, где речь более не могла идти о новых познаниях, но только о перетолковании и переработке уже известного. Чужое теряет свою привлекательность как «другое», экзотическое, наблюдаемое путешественником со стороны и получает новую притягательность как подлежащее принуждению и переработке[473].
Относительно типичных для путешественника «беглых взглядов» советские путешествия сталинского времени также внесли свои коррективы. В современных травелогах «беглые взгляды» воспринимаются как существенный признак путешественников, причем дважды мотивированный: путешественники остаются чуждыми странам, по которым они проезжают, не могут преодолеть обусловленную культурой дистанцию, но вместе с тем, как «находящиеся в движении», они могут скоро уехать, не вступая в интенсивные и глубокие отношения. С парадигматической точки зрения при таком понимании путешествия текст Мандельштама из его «Путешествия по Армении» 1933 года кажется провокацией[474]: «Но глаз мой / падкий до всего странного, мимолетного и скоротечного / улавливал в путешествии лишь светоносную дрожь / случайностей /, растительный орнамент / действительности /…»[475].
Ведь такую позицию нельзя расценивать иначе, нежели противостояние предписываемому в то время советско-сталинскому пониманию путешествия. Советские путешественники приезжают, чтобы оставаться, они не бросают взгляды, а берутся задело, уничтожают, изгоняют чужое или тут же превращают его в свое, то есть опять-таки уничтожают, преображая его. Большинство травелогов того времени хотя и не представляют собой путешествия «one way» и «without return», но все же утрачивают свою изначальную цель, основательно трансформируясь в советское привычное состояние.
Когда Мандельштам пишет в своем тексте об Армении: «Нет ничего более поучительного и радостного, чем погружение себя в общество людей совершенно иной расы, которую уважаешь, которой сочувствуешь, которой вчуже гордишься»[476], — то он представляет чужое как культурную ценность, как восторг и стремление путешественника к отчуждению от культуры собственной. Советско-сталинское путешествие середины 1930-х годов затронуло и этот аспект: отдаленная цель путешествия не является в нем принципиально чуждым пунктом, но получает значение символического центра, так как для путешественника исключена возможность отчуждения от своего происхождения. Он все более становится непрерывно связанным с ним и, благодаря такому странствию, в символической сфере совсем близко подходит к центру собственного пространства. В целом изображения путешествий или же экспедиций очень часто подчеркивают непрерывную связь протагониста с Москвой, при этом важное место занимают современные средства коммуникации: радиовещание является инструментом, с помощью которого практически полностью преодолевается отдаленность в пространстве. Зачастую преимущество медиальной связи над действительной пространственной близостью инсценируется нарративно (ср., например, «На востоке»)[477]. Между тем и железная дорога в эти годы интерпретируется не как средство сообщения, открывающее пространство, но как нечто, что его сгущает, закрепляет, «заземляет», делает из открытого внешнего пространства закрытое внутреннее, преодолевая локальные различия[478] (ср., например, у М. Шагинян в «Тайне трех букв», 1933–1934)[479].