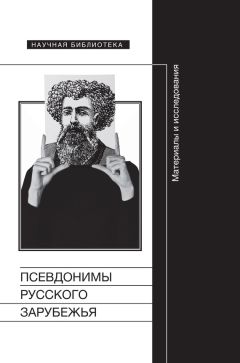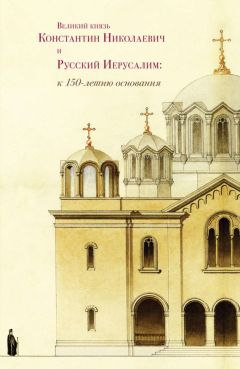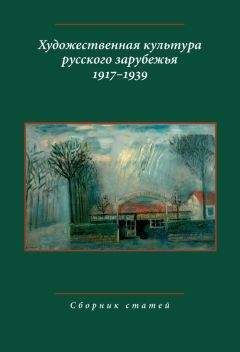Вольфганг Киссель - Беглые взгляды
2. Следуют развернутые и частично вымышленные «воспоминания» автора о том же самом месте или же социальном явлении (исполнение наказаний, воспитание, индустрия и т. п.) в дореволюционное время.
3. К ним примыкают в избранной последовательности следующие мотивы: а) беседа автора с одним из представителей того или иного предприятия, которая подводит своего рода итог всем достижениям; б) впечатления автора, которые подчеркивают все достойное подражания, прекрасное, абсолютно новое в том или ином месте[444]; в) сцена, в которой участвуют «местные», чтобы подтвердить как отчет своего представителя о достижениях, так и общее позитивное впечатление автора.
4. Очерк завершается окончательным выводом автора, который еще раз подытоживает и превозносит все увиденное и пережитое с точки зрения перспективы мировой истории:
Уехал я из Баку […] под впечатлением спокойной и успешной работы рабочих против стихийной силы, уехал с отрадным сознанием, что я видел настоящий город рабочих, где они — хозяева, как это и должно быть во всех городах, на всей земле Союза Советов, во всем мире (С. 129).
В основе подобных выводов лежит авторское намерение, которое артикулируется во внутреннем пространстве текста пусть не столь патетически, зато наиболее часто: намерение путешественника восхвалять все, что он видит: фабрики, квартиры рабочих, детские сады, колхозы, столовые, пионерские вечера или изображенный в следующей цитате «разнообразный вечер»:
Концерт был весьма интересен и разнообразен. Небольшой, но хорошо сыгравшийся «симфонический ансамбль» исполнил увертюру из «Севильского цирюльника», скрипач играл «Мазурку» Венявского, «Весенние воды» Рахманинова; неплохо был спет «Пролог» из «Паяцев» […] Некто отлично декламировал «Гармонь» Жарова под аккомпанемент гармоники и рояля. Совершенно изумительно работала труппа акробатов […] — делая такие «трюки», каких не увидишь и в хорошем цирке. Во время антрактов в «фойе» превосходно играл Россини, Верди и увертюру Бетховена к «Эгмонту» богатый духовой оркестр; дирижирует им человек бесспорно талантливый (С. 225–226).
Бросается в глаза, что здесь, ближе к концу цикла, похвала кажется равнодушной и бесстрастной. Возможно, на полпути автору не хватило энергии на выполнение предписанного программой указания, лежавшего в основе данного текста[445]. Но не исключено, что сглаживание нарративного профиля имеет совсем другую причину: веселая картина изображает «разнообразный вечер» в Соловках, в той исправительной колонии, об особенно жестоких условиях жизни и труда в которой мы теперь значительно лучше информированы благодаря «Архипелагу ГУЛАГ» Александра Солженицына[446] или фильму Марины Голдовской «Власть Соловецкая»[447].
Конечно, от Горького не укрылось, что ему, по словам Аркадия Ваксберга, «пудрили мозги»[448], что, говоря иначе, «Союз Советов», по которому он путешествовал, был пропагандистской «потемкинской деревней». Но его очеркам не позволялось быть чем-то большим, нежели пропаганда. И прежде всего поэтому горьковское желание хвалить остается непоколебимым. Сам он обосновывает его своей ролью «свидетеля борьбы старого с новым»:
Я — даю показания на суде истории перед лицом трудовой молодежи, которая мало знает о проклятом прошлом и поэтому нередко слишком плохо ценит настоящее, да и недостаточно знакома с ним (С. 190).
Но о каком настоящем мог знать Горький, по истечении многих лет в первый раз увидевший Советский Союз своими глазами, а до этого черпавший свои знания о современной ситуации в стране только из литературы, прессы и личной переписки? И какие «показания на суде истории» мог дать человек, чье восприятие подчинено столь сомнительному пониманию правды[449], что в нем исправительные лагеря предстают как идиллия и место рождения «нового человека»?
«Беглые взгляды бегущего от реальности и жаждущего гармонии путешественника» — так могло бы звучать резюме этой статьи с учетом названия настоящего сборника. Эмпирия могла интересовать Горького как человека; но для автора путевого отчета она была не более чем кладезем лозунгов[450]. Горький путешествовал по Советскому Союзу, чтобы укреплять его национальное самосознание, восхвалять его и — вопреки распределению ролей Сталиным и Ягодой — по-настоящему им восхищаться. Он видел в этом противовес контрпродуктивной, по его мнению, пятилетней кампании «Критика и самокритика». Однако его панегирик «Союзу Советов» в структурном смысле совпадает именно с этой кампанией, так как публичные восхваления образовывали лишь оборотную сторону разоблачений, которые начались и уже существовали во время первой пятилетки. Одна кампания общественного признания при сталинизме вела к привилегиям для ударников и подхалимов, из которых рекрутировалась новая советская элита. Другая была посвящена клевете, доносительству и разоблачениям, короче, растущей «трибунализации» общественной жизни, в итоге вылившейся в большие показательные процессы 1936–1938 годов[451].
Своей низкой оценкой эмпирии и стремлением к «позитивному», которое выстраивало sacrificium intellectus литературной интеллигенции в эпоху сталинизма, Горький существенно способствовал той «дереализации» реальности, которая характеризует сталинизм как систему двойной бухгалтерии. Под этим следует понимать отделение образов из непосредственного личного опыта индивида от тех, что государство в двойном смысле слова «пред/писывает» и закрепляет как «общественный опыт». Зажатое между мрачным прошлым, которое Горький представлял как «свидетель», и светлым будущим, в котором советский человек должен соответствовать своей Прометеевой задаче, путешествие «буревестника революции» редуцировалось до простых промежуточных остановок, беглых встреч с представителями местной партийной элиты, красных флагов, транспарантов и духовой музыки: остановки, которые быстро заканчивались и сразу забывались. Здесь и сейчас Советского Союза, преследовавшиеся Горьким, сжались таким образом до меняющихся остановок на пути. Путь же этот путешественник измерял только относительно своей идеальной точки схода — а она, как это обычно бывало у Горького, означала не меньше, чем начало нового века.
Андреас Гуски (Базель)Русские травелоги середины 1930-х годов
Путешествие — это практика культурного освоения пространства. Все культуры обладают особенными (в большей или меньшей степени ритуализированными) практиками передвижения в пространстве, но не в каждой есть практика передвижения, сопоставимая с нашим пониманием «путешествия». На фоне «беглых взглядов», бросаемых путешественниками европейского модерна на окружающую их незнакомую местность, на чужбину, увиденную проездом или во время короткой остановки, «взгляды» советских путешественников 1930-х годов обнаруживают такое отличие, что с современной точки зрения не всякий решится говорить здесь о травелогах. В дальнейшем речь пойдет о выявлении этого отличия, а также о специфике советских травелогов середины 1930-х годов. При этом будет показано, что в этих текстах в определенной степени проявляется антимодернистская и одновременно имперская полемика нового типа с европейской (национально-государственной) традицией травелогов.
I. Середина 1930-х годов: травелоги на повороте от фактографии к социализмуСередина 1930-х годов представляет собой интересный предмет исследования: в литературе сохраняется возникший в конце 1920-х годов бум путевых очерков, берущий начало в концепте так называемой «литературы факта», но вместе с тем в текстах художественной литературы выделяется тенденция к дефактизации, обусловленная доктриной соцреализма. Как и прежде, литературные журналы еще полны текстов, входящих в рубрику очерков и, судя по названиям, печатающихся в качестве травелогов. Особенно часты названия, обозначающие в качестве предмета изображения регион или же специфически «путешествующее» его обозначение. С 1931 года широко развернулись дебаты, касающиеся жанра очерка, развившиеся от стремления возвысить фактографический очерк до уровня доминирующего, охватывающего все формы художественной литературы (пост)литературного жанра — к литературности и вымышленности содержания, к новому выделению субъективно-креативных моментов «открытия» действительности, выразительных красок и типизации[452]. На этом фоне вырабатывалась, однако (как в названиях, так и в самих текстах), радикально новая позиция по отношению к путешествию и путешественнику, а также к цели путешествия и чужим краям. Когда в 1936 году, в конце дебатов, потребовалась замена очерка новым «художественным» вариантом жанра, соответствующим по своим масштабам литературе соцреализма, «названия травелогов» часто давались вымышленным произведениям, которые имели для жанра парадигматическое значение (например: Павел Павленко «На востоке» (1936)[453], он же «Пустыня» (1935)[454], Леонид Леонов «Дорога на Океан» (1935)[455] и т. д.). Наконец, это было время, когда начала формироваться новая по отношению к 1920-м годам концептуализация пространства, включавшая его идеологизацию и отказ от географического измерения. Именно в это время бросается в глаза, что «травелоги» по преимуществу сосредоточиваются на совершенно определенных регионах, чье географическое значение подменяется или же подавляется их символической ценностью.