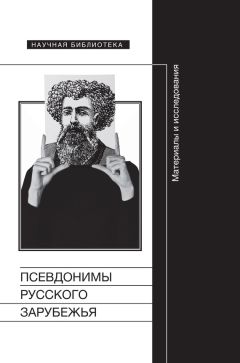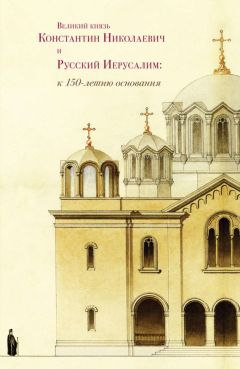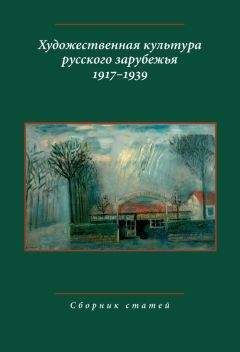Вольфганг Киссель - Беглые взгляды
В зависимости от расположения региона в центре советских путешествий середины 1930-х годов стоит одно из двух обозначений границы: просто «граница» или «фронт». Парадигмой для развития понятия «граница» (тесно связанного с понятием «оборона» и определенно долженствующего соответствовать закрытости и отсутствию экспансивности) служил регион Дальнего Востока, которому угрожали военные действия со стороны Японии. Это проявляется уже в том, что большинство названий, содержащих понятие «граница» (например: «На границе» или «Граница на замке»), посвящены Дальнему Востоку и, кажется, именно так понимались и читателями. Павленко прямо писал в своем романе «На востоке»: «Я хотел показать людей на границе»[492].
Напротив, ареной явно экспансивной фронтовой риторики стали многочисленные тексты тех лет об экспедициях и полетах в Арктику.
Однако и тексты и фильмы о Дальнем Востоке все же свидетельствовали о том, что «граница» может пониматься вполне экспансивно; сравнение четко показывает, что в основе как текстов о путешествиях в Арктику, так и тех, что посвящены строительству или обороне на Дальнем Востоке, лежит тот же самый концепт границы.
Вениамин Каверин дает некоторое представление о том, как пытались избежать противоречия между двумя концептами границы, когда он пишет в своем романе «Два капитана» (1944) о типичных первооткрывателях Арктики: Север одарил их силой, и на Север они возвращают ее. Они расширили границы цивилизации в мире, а на войне охраняют их[493].
Но именно этим и отличаются советские травелоги середины 1930-х годов от других. Путешествие здесь не имплицирует, как это обычно бывает, сначала переход границы, а затем познание чужого или в любом случае другого пространства — оно означает здесь скорее приближение к границе. Граница является целью. Но вследствие этого появляется специфическое, не типичное для травелога отношение к чужому, другому пространству по ту сторону рубежа: граница в травелогах 1930-х годов остается неперейденной, а (если продолжать пользоваться военной терминологией) продвинутой фронтом, фронтиром и поэтому приобщающей и трансформирующей новое завоеванное пространство. Другое, чужое по ту сторону границы больше не представляет в этих псевдотравелогах никакой ценности, скорее даже несет негативную нагрузку, так как в принципе подлежит уничтожению.
Здесь формируется основная специфика конструкции советского пространства в 1930-е годы. Потенциально оно воспринимается как тотальное через понятие абсолютной заграницы, которая, по мере завершения работы по советизации, постепенно преодолевается и в конечном итоге — когда внешнее будет полностью уничтожено или же ассимилировано — отменяется. Таким образом, внутреннее пространство также оказывается во всех точках пронизанным границами, а в ориентированном на будущее идеале — полностью лишенным границ. Путешествие в сконструированном подобным образом пространстве невозможно, оно в конце своем теряет всякий смысл.
С культурно-семиотической точки зрения, путешествие придает времени пространственное измерение. В своих размышлениях о мифопоэтике дороги В. Топоров характеризует ее как один из важнейших классификаторов или как модель специализации (опространствления) времени[494]. Построенные на такой основе путешествия воспринимаются обычно только как метафора процедуры выстраивания субъекта или образования личности. Но путешествия также и «овременяют», темпорализуют пространство. Так, путешествия эпохи европейского Нового времени в большинстве случаев были направлены в культурное прошлое (за исключением путешествий в Америку или, для русских, поездок на Запад, изображенных как путешествия в будущее)[495]. Путешествия и травелоги служат выстраиванию европейского субъекта как носителя культуры, одновременно они конструируют европейское пространство памяти. Здесь следует различать два типа, соответствующих двум геокультурным регионам: с одной стороны, путешествие в пространство, ощущаемое как европейское прошлое, и, с другой — в пространство, кажущееся чужим (с XVIII века последнее также приобщается к истории человечества в качестве пространства памяти на основании универсальных антропологических моделей). В случае европейского пространства памяти снова следует обратить внимание на дифференциацию, связанную с культурными ценностями: различие между пространством греко-римской античности, которое оценивается как генетическая основа собственной, европейской культуры, и Востоком, который, собственно, является другим объектом эстетического восхищения и низкой культурной оценки одновременно.
Здесь вспоминается Мандельштам: не только его «Путешествие в Армению», но все те многочисленные тексты, в которых автор занимается геокультурными регионами применительно к конструированию европейского пространства памяти посредством путешествия. Подобно многим русским путешественникам начиная с Карамзина, Мандельштам конструирует европейское культурное пространство как единство памяти, неотъемлемой частью которого несомненно является Россия.
Против такого понимания путешествия, против конструирования геокультурного пространства были направлены «верные линии партии» советские травелоги 1930-х годов. Они также придавали пространству временное измерение, однако совсем иначе. Это были путешествия на границу, где встречаются настоящее и прошлое: советский путешественник, как пишет М. Шагинян в 1934 году, видит «далекие горизонты будущего», и он «вступает в них, начинает творить уже не бледные слепки и образы, а самое жизнь»[496].
Сначала на границе, которая представляет цель путешествия, встречаются советское настоящее путешественника и прошлое. При этом в качестве прошлого могут фигурировать самые разные явления и уровни.
В случае Арктики и Северного полюса советский путешественник сталкивается не только с нетронутой, враждебной человеку природой, но и с архаико-мифическим прошлым. Действия советских героев изображаются тут не только как борьба с природой, но и как мифопоэтическая борьба с этим прошлым, подразумевающим также мифы архаических, практикующих шаманизм народов. Так, например, у Сельвинского: «И в сладком страхе чувствуешь ты вдруг, / Что встреча с Полюсом — встреча со зверем»[497]; глыбы льда называются «сфинксами» и «мифическими зверями»; белый медведь выступает как «зверь-тотем, одичалый празверь» и сравнивается с самим Полюсом: «Как будто по царствам своим скакал / Сам Северный Полюс!»[498] И дальше метафора зверя в шаманском духе: «Арктика пробита, словно кит, / И, выпуская внутренности, тонет!»[499] Это мифическое правремя в ходе изображаемой в поэме борьбы радикально меняется и трансформируется в «государственный орден»[500].
Соответствующая трансформация происходит на дальневосточной границе — с той разницей, что здесь встречается друг с другом много разных культур, а значит, и «времен». В первую очередь речь идет о границе, которая воспринимается как важнейшая парадигма границы внешней — между Советским Союзом и капиталистическим пространством, враждебным и угрожающим. Последнее, согласно марксизму-ленинизму, относится к определенной временной эпохе и противопоставляется советскому пространству как пространство прошлого. В известной мере оно эквивалентно пространству архаических народов, также играющих в изображении Дальнего Востока достаточно важную роль[501]. Третий род темпорализации создается внутри пограничного пространства между двумя генерациями или типами местных советских служащих: с одной стороны, так называемыми «пограничниками» — людьми, несколько напоминающими партизан, краеведов, которые знают пограничное пространство, читают в нем все следы и таким образом охраняют границу, однако в принципе ничего изменить не могут, — и, с другой, командированными из центра молодыми героями войны или строек. С этой точки зрения, не удивительно, когда Павленко, уподобляя войну строительству, пишет: «Война — это строительство в условиях повышенной смертности…»[502] Именно такие молодые люди, а не пограничники являются в этих текстах путешественниками, преобразователями.
На границе — не важно, на полюсе или на Дальнем Востоке — из антагонистических столкновений постоянно возникает драматическая борьба за будущее, quasi ex nihilo реализуется советская утопия. Наиболее подходящим для обозначения специфики структуры темпорализации пространства и подвижности самой границы оказывается понятие «фронтир» (frontier). Мой тезис заключается в том, что акт противоборства смещает границу пространства как линию фронта, а граница времени между настоящим и будущим стирается. Кажется, точно так же снимается граница пространства и времени. В этой динамике остается сохранной лишь внешняя граница пространства, которая одновременно понимается как временной рубеж между настоящим и прошедшим: она только сдвигается — будущее отодвигает прошедшее, стирает его, но никогда не отменяет. При внешнем наблюдении она абсолютна. Так в каждом центральном сюжетном моменте советских травелогов конструируется время-пространство, которое можно толковать как специфическое, абсолютно закрытое и одновременно экспансивное пространство «рубежа».