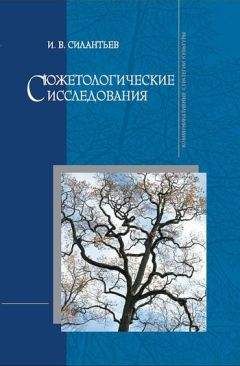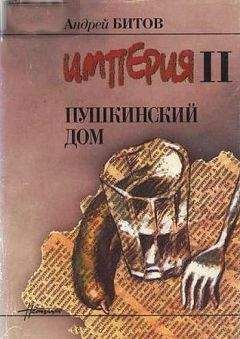Игорь Силантьев - Газета и роман: Риторика дискурсных смешений
К слову сказать, и галлюцинации героя оказываются не такими простыми. В тексте романа, при внимательном рассмотрении, обнаруживаются своего рода маленькие секреты (похожие на детские спрятанные «секретики»), раскрывающие подлинность многого из того, что происходило с Татарским в галлюцинаторном бреду. Вот один из таких «секретиков»: «Ом мелафефон бва кха ша» – повторяет Татарский в попытках убежать от кислотной реальности, а рука из этой реальности протягивает ему «маленький мокрый огурец в пупырышках» (173). «Дайте, пожалуйста, еще огурец» – переводит эту «мантру» по учебнику иврита Гиреев (181). В чем здесь секрет? В том, что Татарскому, произносящему эту фразу и при этом абсолютно не понимающему ее, неведомые силы совершенно правильно предлагают огурец. А это означает, что мир, который так напугал Татарского после приема наркотика, – настоящий, а не галлюцинаторный, потому что этот мир с его огурцом и со всеми страшными откровениями происходит не из головы героя.
«Переходная форма» от иронии к цинизму
Остановимся на вопросе, смежном с проблематикой предыдущей главы, – дело в том, что ирония текста в романе нередко оформляется посредством ключевых для всего произведения дискурсных совмещений и смешений.
Вот чрезвычайно яркий пример: «По уровню удобств его (Гиреева. – И. С.) жилье было переходной формой между деревней и городом: в будке-уборной сквозь дыру были видны мокрые и осклизлые канализационные трубы, проходящие над выгребной ямой, но откуда и куда они вели, было неясно» (49; курсив наш. – И. С.). Включение в текст преконструкта «советского» дискурса актуализирует и буквализирует его «внутреннюю форму», что выступает как прием жесткой иронии.
Обратимся теперь к следующему тексту. «Многое из того, что говорил Морковин, Татарский просто не понимал. Единственное, что он четко уяснил из разговора, – это схему функционирования бизнеса эпохи первоначального накопления и его взаимоотношения с рекламой» (20; курсив наш. – И. С.). Или другое: «Татарский понял, чем эра загнивания империализма отличается от эпохи первоначального накопления капитала. <…> Покурив однажды очень хорошей травы, он (Татарский. – И. С.) случайно открыл основной экономический закон пост-социалистической формации: первоначальное накопление является в ней также и окончательным» (32; курсив наш. – И. С.).
В обеих фразах в художественный нарратив вторгается экономико-идеологический дискурс зрелого советского образца, выстроенный в строгой научной стилистике. Этот дискурс в сочетании с крайне сниженной в ценностном отношении схемой, которую развертывает перед хмельным Татарским Морковин («Человек берет кредит. На этот кредит он снимает офис, покупает джип “чероки” и восемь ящиков “Смирновской”» и т. д. – с. 20—21), создает риторический эффект циничной в своей крайности иронии по отношению ко всем фигурантам действия. Этому способствуют и элементы собственно научного (точнее, научно-технического) дискурса, неслучайно появляющиеся в тексте: «… в голове у человека, который все это заварил, происходит своеобразная химическая реакция» (21; курсив наш. – И. С.). В результате этой риторической процедуры Морковин, как высказывающийся, получает полное право присваивать своему герою-бизнесмену самые нелестные характеристики: «В нем (в бизнесмене. – И. С.) просыпается чувство безграничного величия, и он заказывает себе рекламный клип. Причем он требует, чтобы этот клип был круче, чем у других идиотов» (там же; курсив наш. – И. С.). Этим характеристикам, кстати, вторит и сам нарратор, распространяясь в другом месте насчет стандартов рекламных образов и стандартов самих потребителей этой рекламы: «… пальмы, пароход, синее вечернее небо, – надо было быть клиническим идиотом, чтобы сохранить способность проецировать свою тоску по несбыточному на эти стопроцентно торговые штампы» (76; курсив наш. – И. С.).
В рамках той же риторической схемы иронически срабатывает включение элементов научного и публицистического дискурса в следующих фразах: «В них (сценариях клипа. – И. С.) были задействованы … черные «мерседесы», набитый долларами чемодан и прочие народные архетипы» (29—30; курсив наш. – И. С.); «Денег он (Татарский. – И. С.) зарабатывал не особенно много, но все равно выходило больше, чем на ниве розничной торговли» (31; курсив наш. – И. С.).
И уже совсем цинично в своей противоречивости звучит иронические сочетание дискурсов во фразе: «А когда заказы пошли один за другим, он (Татарский. – И. С.) понял, что в бизнесе никогда не следует проявлять поспешности, иначе сильно сбавляешь цену, а это глупо: продавать самое святое и высокое надо как можно дороже, потому что потом торговать будет уже нечем» (там же; курсив наш. – И. С.). «Все самое высокое в душе», «самое святое и высокое» – как правильно и бесконфликтно эти всем знакомые выражения (по своей сути, дискурсные преконструкты) улеглись бы в речь известного деятеля культуры, политика высокого ранга, церковного иерарха и т. п. – и как торжествующе цинично (но вместе с тем с какой аккуратной прагматичностью) они звучат в речи нарратора, с сочувствием и тихой завистью описывающего похождения своего героя.
В том же ироническом духе обыгрывается характерные для американской популярной социально-экономической литературы приемы банально-цветастой метафорики: «Насколько Татарский мог судить (по поводу американской книги по рекламе „Positioning: a battle for your mind“), никакого сражения между товарами за ниши в развороченных отечественных мозгах не происходило; ситуация больше напоминала дымящийся пейзаж после атомного взрыва» (32), и особенно здесь: «Но все же книга была полезной. Там было много шикарных выражений вроде line extention, которые можно было вставлять в концепции и базары» (там же; курсив наш. – И. С.).
Вот эти «базары» в одном ряду с «концепциями», как ничто другое, наглядно демонстрируют самый принцип циничного в своей иронической игре смешения дискурсов, характерного для повествовательной речи нарратора – и для языка самой «постсоциалистической формации». То же самое находим в следующем тексте: «Но особо ему (Татарскому – И. С.) помогла книга Россера Ривса – он вычитал в ней два термина, “внедрение” и “вовлечение”, которые оказались очень полезными в смысле кидания понтов» (68; курсив наш. – И. С.). Обращаем еще раз внимание на смысловую, интенциональную и в целом дискурсную сопряженность речи героя и речи повествователя: выделенное курсивом выражение принадлежит не только речевому сознанию героя романа – сама повествовательная речь оказывается зараженной речью своего героя, а скорее, всей этой суетливо-циничной дискурсной среды, в которую окунулся Татарский.
В качестве характерных примеров приведем также следующие тексты: «Пугин, мужчина с черными усами и блестящими черными глазами, очень похожими на две пуговицы, нарисовался случайно, в гостях у общих знакомых»; «В Нью-Йорке особенно остро понимаешь, – сказал он Татарскому за водочкой, к которой перешли после чая…» (34; курсив наш. – И. С.) Кто в данных текстах стоит за словечком «нарисовался» или за ласковой «водочкой» – нарратор или герой романа? Нам представляется, что здесь берет слово, как мы указывали выше, сама дискурсная среда, в которой вращается герой и к которой, по существу, принадлежит и нарратор.
Кому принадлежат «тихие голоса»?
В заключение главы отметим еще одну особенность нарратива пелевинского романа. При всем разнообразии дискурсной палитры и игровых возможностей повествовательной речи произведения для нее характерно практически полное отсутствие лирической тональности как таковой.
Лиризм, в принципе, предполагает некую абсолютную точку отсчета в видении мира и себя самого, а также некую свыше установленную систему ценностей. Повествовательная речь романа, напротив, тотально релятивна – от степеней иронического безразличия до степеней циничного безверия, и это понятно, поскольку, как мы указывали выше, нарратор является смысловой и дискурсивной проекцией самого героя (см. один из ключевых диалогов романа: «Ты хоть во что-нибудь веришь? – спросил он (Азадовский. – И. С.) – Нет, – сказал Татарский. – Ну хорошо, – сказал Азадовский…» – с. 212).
Именно эта невозможность лирически озвучить речь нарратора, как нам кажется, приводит к художественной необходимости выражения лирической тональности (идущей, позволим себе предположить, уже собственно от автора) в рамках независимого от нарратора дискурса откровения. Один из немногих, но самых характерных примеров – это речь «тихих голосов», предвещающих намухоморенному Татарскому его встречу с богиней: «Все совсем наоборот, чем думают люди, – нет ни правды, ни лжи, а есть одна бесконечно ясная, чистая и простая мысль, в которой клубится душа, похожая на каплю чернил, упавшую в стакан с водой. И когда человек перестает клубиться в этой простой чистоте, ровно ничего не происходит, и выясняется, что жизнь – это просто шелест занавесок в окне давно разрушенной башни…» (306). Всякий согласится с тем, что это одно из самых проникновенных и лирически проясненных мест романа – но невозможно даже теоретически представить этот текст в системе речи романного повествователя!