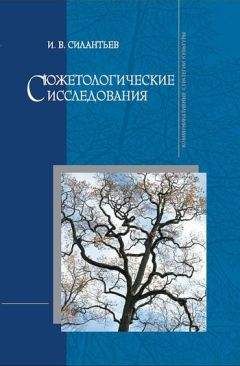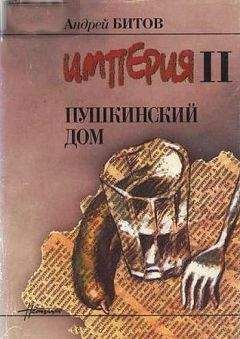Игорь Силантьев - Газета и роман: Риторика дискурсных смешений
Раскроем это разграничение подробнее. Судьба романного героя не дана и не задана ему. Это судьба незапланированно и неожиданно случившаяся, или неповторимо и свободно совершенная и в своих итогах завершенная героем. «Сама романная действительность, – писал М. М. Бахтин, – одна из возможных действительностей, она не необходима, случайна, несет в себе иные возможности»[117].
Поэтому такая судьба – не только индивидуальная, но и вполне личная. Судьба же героя волшебной сказки – не личная, а только индивидуальная, – в том смысле, что герой в одиночку, во временном и внешнем отделении от родового коллектива проходит ее этапы как этапы испытания. Это не личная неповторимая судьба. Напротив, это для всех одинаковый, заданный, повторимый и затверженный индивидуальными прохождениями путь.
Готовый и неличный характер судьбы героя волшебной сказки подчеркивает Е. М. Мелетинский: эта судьба «при всех волшебных моментах содержит идею ритуального стереотипа»[118].
Здесь с Татарским начинаются, так сказать, жанровые проблемы – с точки зрения художественной концепции судьбы этот герой плохо вписывается в романный «стандарт». Судьба нашего героя предопределена с самого начала всей истории. Татарский – избранник богини, и рок избрания ведет его по всей его неинтересной жизни к финальным событиям. Таким образом, судьба Татарского – это не классическая романная судьба-случай (генетически исходящая от эллинистической судьбы-тихэ), а судьба-рок, только не трагического, а иронического склада (что обусловлено, конечно же, постмодернистскими художественными стратегиями произведения).
Итак, в смысловой структуре героя Татарского наличествует глубокое противоречие: это свободный герой, но связанный при этом судьбой-роком: «А отказаться я могу?» – спрашивает Татарский Фарсук-Фарсейкина перед церемонией брака с богиней. – «Не думаю» – отвечает ему ветеран «Общества Садовников» (326).
В рамках осмысления смысловой противоречивости героя «Generation “П”» сделаем несколько необычное предположение касательно жанровой природы самого произведения – это, безусловно, роман, но не классического образца, а роман, осложненный фабульными стратегиями древнего жанра жития[119].
Если не обращать внимания на многочисленные мелкие безобразия Вавилена (а они, действительно, не имеют никакого отношения к сути дела), Татарский как герой полностью вписывается в концепцию житийного героя – это первоначально частный и предоставленный самому себе человек, свободный в своем взгляде на мир, человек, каких много, и одновременно – отмеченный с самого рождения, словно печатью, странным именем («человек с именем города» – с. 325), и впоследствии замеченный некоей высшей силой и избранный в соответствии со своим именем быть пророком и «живым богом».
Татарский как фигура сюжетной иронии
Перейдем от анализа фабулы к анализу сюжета романа.
В заголовке мы употребили слово «фигура» в собственно риторическом смысле – дело в том, что с точки зрения сюжета герой выступает ведущим средством передачи (и в то же время основным местом сосредоточения – ибо the medium is the message!) определенного комплекса смыслов, который мы назовем сюжетной иронией.
В классическом романе нарративное начало носит тотальный характер. Нарратив выступает основой всего дискурсного построения романного текста, и художественный мир романа в силу этого раскрывается перед читателем как мир рассказанный, поведанный, как мир повествуемых событий, включенных в измерения фабулы и сюжета. В неклассическом пелевинском романе нарративное начало – как, между прочим, и в массовой газете – встраивается в текст не более чем на правах одного (из многих) дискурса, и при этом далеко не всегда основного, базового. Поэтому фабульное начало в романе временами может быть ослаблено, а в силу этого и сюжетика романа носит не только фабульный, но и вне-фабульный, а значит, как мы определяли в первой части книги, в целом мета-фабульный характер. Как и в газете, сюжет здесь выходит на внешний по отношению к наррации уровень текста как такового: в сюжетно-смысловые отношения вступают не только собственно изложенные события, но и дискурсно маркированные субтексты романа – в ряду которых, повторим, субтексты нарративной природы занимают только частное положение.
Так, нарративы романа образуют отчетливые смысловые конфигурации в своих соотношениях с субтекстами, представляющими дискурс откровения (сокровенного знания). Данные субтексты мотивированны фабулой исключительно внешне: герой находит машинописную рукопись «Тихамата», причем находит дважды – сначала в детстве при сборе макулатуры, а затем – случайно в шкафу с разным хламом; посредством чудесной планшетки, которую герой приобретает ненароком, ему являются откровения духа Че Гевары; когда-то и вне всякой связи с повествуемым настоящим герой прочитывает некую статью о «русском мате», заключающую в себе актуальные откровения о пятилапом псе и судьбах России, и т. п.). Однако, попадая в романный нарратив извне фабульного пространства, обжитого героем, эти тексты в дальнейшем определяют ключевые линии развития романной фабулы и, в конечном счете, финальные события романа.
В разнообразные смысловые отношения (и при этом практически минуя фабулу) вступают нарративы романа и с субтекстами рекламной природы (ср., например, текст рекламной концепции Малюты о Харлее и Давидсоне и последующий рассказ таксиста о сержанте Харлее).
В силу своего частного положения в структуре текста романа нарративный дискурс как таковой нередко становится зависимым от других дискурсов: в произведении иной раз не просто рассказывается о тех или иных событиях, а изображается рассказывание. Прибегая к известной бахтинской формуле разграничения фабулы и сюжета как «рассказанного события» и «события рассказывания», здесь можно говорить о том, что в нашем романе иронично изображается самое событие рассказывания, и текст романа как таковой тем самым вступает в некую неискреннюю игру с читателем. Таким образом, над обычными сюжетными отношениями фабульных планов нарратива формируется иронический метасюжет, и Татарский, оставаясь «сказочным» деятелем романной фабулы и «житийным» героем-избранником романного сюжета, становится, как мы уже формулировали выше, риторической фигурой иронической смысловой игры, в рамках которой все отмеченные выше семантические отсылки к сказке и житию сами становятся не более чем игровыми моментами.
Ироническая стратегия текста как таковая задается даже ранее, чем открывается собственно романный нарратив, – и явственно звучит уже в кратком авторском предисловии. Разберем этот небольшой текст.
«Все упоминаемые в тексте торговые марки являются собственностью их уважаемых владельцев, и все права сохранены» (5). Совершенно неуместное «уважаемые» вводит иронический код как таковой, и в рамках этого кода последующее стандартное утверждение о правах звучит неоправданно обобщенно – на ум приходят не только имущественные права «уважаемых владельцев», но и права меньшинств, права человека и т. п. Далее. «Названия товаров и имена политиков не указывают на реально существующие рыночные продукты и относятся только к проекциям элементов торгово-политического информационного пространства, принудительно индуцированным в качестве объектов индивидуального ума» (там же). «Имена политиков» здесь приравниваются к «рыночным продуктам» – что само по себе выступает как иронически понижающий прием – и далее в том же ироническом русле оба «продукта» объединяются в одно целое «торгово-политическое информационное пространство», а в итоге объявляются не более чем фантазиями (непонятно только, чьими). И последнее: «Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения» (там же). Это высказывание в своей искусственной парадоксальности иронически опрокидывает все вроде бы всерьез сказанное автором выше, и на первый план выходит ирония как таковая, что задает и общую эстетическую тональность, обволакивающую романное повествование в целом.
Ирония прежде всего охватывает самый предмет повествования, и характерный пример находим на первых страницах произведения, в комментариях к рекламному клипу, героем которого выступает «обезьяна на джипе» (10). Приведем необходимый текст.
«Немного обидно было узнать, как именно ребята из рекламных агентств на Мэдисон-авеню представляют себе свою аудиторию, так называемую target-group. Но трудно было не поразиться их глубокому знанию жизни. Именно этот клип дал понять большому количеству прозябавших в России обезьян, что настала пора пересаживаться в джипы и входить к дочерям человеческим» (10—11).