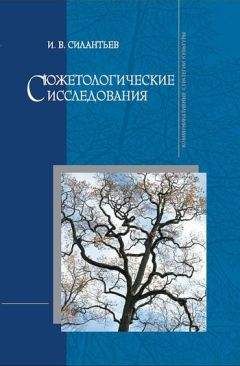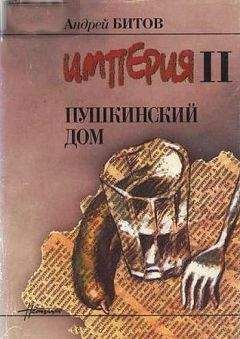Игорь Силантьев - Газета и роман: Риторика дискурсных смешений
– Кем? – спросил он.
– Криэйтором.
– Это творцом? – переспросил Татарский. – Если перевести?
Ханин мягко улыбнулся.
– Творцы нам тут … не нужны, – сказал он. – Криэйтором, Вава, криэйтором» (Там же; курсив наш. – И. С.).
Примечательно, что новообразованный термин рекламистов, вобрав в себя всю отчужденную от российского менталитета новизну и циничность данной профессии, тем самым становится непереводимым с английского.
В речи другого героя романа – Гиреева – повседневный дискурс служит фоном для дискурса сокровенного знания (о котором мы говорили выше): «Как это странно – он (Леша Чикунов. – И. С.) умер, а мы живем… Только я подозреваю, что каждый раз, когда мы ложимся спать, мы точно так же умираем. И солнце уходит навсегда, и заканчивается вся история. А потом небытие надоедает само себе, и мы просыпаемся. И мир возникает снова» (53; курсив наш. – И. С.).
Речь Ханина – в прошлом бывалого комсомольского ритора – не только своеобразно (рекламно) профессиональна, но и порой впечатляюще парадоксальна – и в рамках языковой игры парадокса Ханин анекдотически эффектно обыгрывает конструкции научного дискурса. Разберем с этой точки зрения следующий фрагмент:
«…Теперь подумай: чем торгуют люди, которых ты видишь вокруг?
– Чем?
– Тем, что совершенно нематериально. Эфирным временем и рекламным пространством – в газетах или на улицах. Но время само по себе не может быть эфирным, точно так же, как пространство не может быть рекламным. Соединить пространство и время через четвертое измерение сумел физик Эйнштейн (говорящий, несколько иронизируя (физик Эйнштейн), вводит конструкцию научного дискурса. – И. С.). Была у него такая теория относительности – может, слышал (ирония возрастает: была у него такая теория; может, слышал. – И. С.). Советская власть это тоже делала, но парадоксально – это ты знаешь: выстраивали зэков, давали им лопаты и велели рыть траншею от забора до обеда (здесь иронично поданный научный дискурс совмещается с банальным советским анекдотом. – И. С.). А сейчас это делается очень просто – одна минута эфирного времени в прайм-тайм (кстати, снова дискурс рекламистов. – И. С.) стоит столько же, сколько две цветные полосы в центральном журнале.
– То есть деньги и есть четвертое измерение? – спросил Татарский.
Ханин кивнул.
– Больше того, – сказал он, – с точки зрения монетаристической феноменологии это субстанция, из которой построен мир» (здесь ирония в подаче научного дискурса, пожалуй, переходит в его прямое пародирование. – И. С.) (143).
Таким образом, Татарский, ведомый опытным ритором Ханиным в рамках характерной стратегии сократической майевтики, сам формулирует неожиданный для самого себя и парадоксальный для читателя вывод (что, конечно, неслучайно, если учитывать пока еще скрытую для читателя сюжетную функцию Татарского как пророка рекламной истины).
О том, что перед нами агональный коммуникатор, красноречиво говорит его риторическое упражнение, произнесенное в беседе с Татарским:
«Я думаю, что вам, комсомольским активистам, – сказал он громким и хорошо поставленным голосом, – не надо объяснять, почему решения двадцать седьмого съезда нашей партии рассматриваются не только как значимые, но и как этапные» (154) и т. д.
Любопытна в этом отношении оценка риторических умений Ханина главным героем романа: «… никогда так словами манипулировать не научусь. Смысла никакого, но пробирает так, что сразу все понимаешь» (там же). Перед нами, собственно, одно из самых доходчивых определений существа агональной коммуникации как таковой.
В завершение характеристики дискурсного кругозора Ханина заметим, что от полюса монографического наукообразия его речь легко и непосредственно переходит к диаметрально противоположному дискурсному полюсу «базара» новых русских: «Теперь запомни, – сказал он тихо. – Пока ты здесь работаешь, ходишь подо мной. По всем понятиям так. Поэтому из калькуляции выходит, что одна тонна грин моя. Или ты на чистый базар выйти хочешь?» (150; курсив наш. – И. С.).
Наиболее органичен и целостен в сочетании интеллектуально-идеологического и новорусского дискурсов Вовчик Малой. При всем том, что внешне (фабульно) Вовчик является не более чем эпизодическим персонажем романа, сюжетно он, на наш взгляд, занимает одну из центральных смысловых позиций, являясь своего рода героем нашего времени – таким же характерным, как и сам Татарский. Дело в том, что Вовчик Малой воплощает собственно героическую интенцию в эстетической системе романа, при этом его героика парадоксально вменена натуре современного городского бандита, и реализуется она не в праксисе (хотя Вовчик и погибает как былинный богатырь – в неравной «стрелке» с «чеченами»), а собственно в дискурсе. Именно в той страстной речи, которую Вовчик произносит в салоне «Мерседеса» после вызволения Татарского из «чеченского» плена, заключается действительная сила этого героя, стремящегося обрести «русскую идею», чтобы противопоставить ее «унижению», идущему с Запада – от «любой суки из любого Гарварда» (193).
Замыкает цепочку субъектов новорусской речи «ложный герой» романа Азадовский. Вспомним, как он растолковывает Татарскому мифическую историю о богине и ее смерти, воплощенной в облике пятилапого пса (курсив наш. – И. С.): «Короче, базар такой, что была когда-то одна древняя богиня» (318), или другое: «Короче, по этому договору досталось обоим. Богиню по нему лишили тела и опустили чисто до понятия» (там же). Впрочем, Азадовский, в отличие от Вовчика, Ханина и самого Татарского, является совершенно однозначной, даже одномерной фигурой, что сказывается и в дискурсном однообразии его речи – полуграмотной, то и дело спонтанно сбивающейся на новорусский говорок.
Отметим, что многие герои романа в дискурсивном плане выступают как частные проекции главного героя – Татарского. Таковы Пугин и Ханин, которые отвечают профессиональному плану (Ханин при этом – еще и интеллектуальному, а также и цинически полярному – по-новорусски), а также Гиреев, выступающий в ключевой и странной для самого Татарского роли пророка (и неслучайно в одной из финальных сцен романа Гиреев в галлюцинациях является Татарскому верхом на вещей птице сирруфе). Или, иначе – сам Татарский собирает их существенные черты и, таким образом, действительно выступает характерным представителем поколения «П».
В завершение раздела приведем пример, в котором смешение дискурсов в речи и сознании Татарского достигает некоего самодостаточного и поэтому абсурдного предела: Татарский «понял слово “Тихамат” как некую разновидность сопромата пополам с истматом, настоянную на народной мудрости насчет того, что тише едешь – дальше будешь» (42). По сути дела, эта нелепая смесь слов, понятий и самих традиций речи отражает тот ментальный хаос, который царит в голове нашего потерявшегося в хаосе нового времени героя – впрочем, для того чтобы делать хорошую рекламу, нужны, по-видимому, именно такие герои с такими головами.
Дискурсивные взаимодействия в повествовательной речи романа
Пожалуй, наиболее интересный аспект проблемы смешения дискурсов в романе – это процессы, которые происходят в самой повествовательной речи произведения. В его тексте не только соположены субтексты, выражающие разные дискурсы, и не только речь героев обнаруживает характерные признаки смешения дискурсов – повествовательная речь романа сама являет собой поле напряженной интер– и полидискурсивности.
Здесь необходимо сделать одну существенную оговорку нарратологического характера: речь, в рамках которой ведется повествование в романе, принадлежит не автору (и тем более не конкретному человеку Виктору Пелевину, у которого есть лицо, паспорт, свои привычки и т. д.) – хотя именно так полагают многие его критики – а собственно повествователю, или, говоря точнее, применительно к данному произведению, имплицитному нарратору[92]. Имплицитный нарратор – это инстанция, ведущая повествование и при этом непосредственно не проявляющая себя в рассказывании, в отличие от эксплицитного нарратора, или собственно рассказчика, который не только повествует о происходящем, но и сам в том или ином отношении вовлечен в это происходящее, а также сопровождает свой рассказ какими-либо самохарактеристиками[93]. Не будем говорить о других произведениях Пелевина, но «Generation “П”» как фабульно организованная история, или нарратив, рассказан человеком, адекватным самой эпохе с ее пафосом социальных трансформаций и непредсказуемости личных судеб, человеком неплохо образованным в гуманитарном смысле, знающим что-то из истории, литературы и мифологии, и при этом достаточно циничным и уже привыкшим играть словами, понятиями и ценностями, порой не особенно разбираясь в выражениях (ср.: «Пугин … нарисовался случайно, в гостях у общих знакомых» – С. 34; курсив наш. – И. С.). Кроме того, у нарратора, как и у всякого человека, нормально ограничен кругозор (эту ограниченность, например, выдает следующая фраза из текста романа: «Он (Татарский – И. С.) поступил в технический институт – не потому, понятное дело, что любил технику (его специальностью были какие-то электроплавильные печи), а потому, что не хотел идти в армию» – С. 13; курсив наш. – И. С.).