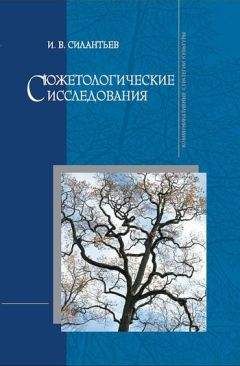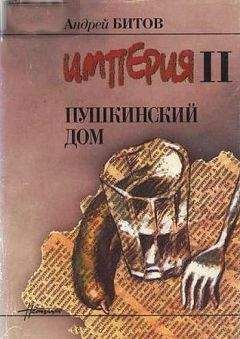Игорь Силантьев - Газета и роман: Риторика дискурсных смешений
В объяснении приведенных примеров будет уместным привести очень точное высказывание Ю. М. Лотмана: «Текст – семиотическое пространство, в котором взаимодействуют, интерферируют и иерархически самоорганизуются языки»[88], с одной только поправкой: в нашем тексте встречаются и взаимодействуют собственно дискурсы. Но одно не противоречит другому, поскольку дискурс как таковой – это не что иное, как речевая традиция устойчивого порождения определенного культурного кода на основе общекультурного языка[89]. Приведем еще одно суждение из цитируемой работы Ю. М. Лотмана: «Введение чужого семиозиса, который находится в состоянии непереводимости к “материнскому” тексту, приводит этот последний в состояние возбуждения: предмет внимания переносится с сообщения на язык как таковой и обнаруживается явная кодовая неоднородность самого “материнского” текста. В этих условиях составляющие его субтексты могут начать выступать относительно друг друга как чужие и, трансформируясь по чуждым для них законам, образовывать новые сообщения»[90]. В нашем случае семиотически конфликтное столкновение в тексте разнородных и взаимно непереводимых дискурсов и сопряженных с ними культурных кодов приводит к порождению третьего – а именно, нового семиозиса рекламного текста, заряженного энергией агонального воздействия на читателя (об агональной коммуникативной стратегии рекламного дискурса см. в главе четвертой первой части книги).
И далее, уже за пределами рекламного текста, происходит самое важное: вторгаясь в дискурсивное пространство современного общества, реклама самим своим существованием провоцирует процессы столкновения и смешения дискурсов в иных, не связанных непосредственно с рекламой коммуникативных сферах культуры, и тем самым способствует развитию в корпусе культуры сильнейшего вектора агональности как таковой: «Когда происходит смешение языка, возникает вавилонская башня» (58). В сильнейшей степени «вавилонскому» влиянию рекламы подвержены дискурсы средств массовой информации, однако и литература оказывается не чужда принципу смешения дискурсов – этот принцип, подчеркнем, лежит и в основе текстообразования романа «Generation “П”».
Дискурс откровения (сокровенного знания)
Вавилену Татарскому как пророку и, в конечном счете, избраннику богини рекламы время от времени являются откровения, и время от времени он (естественно, по воле высших сил) обнаруживает тексты, содержащие некое сокровенное знание (более того, его как настоящего пророка время от времени посещают видения – например, на стройке: три пальмы с пачки «Парламента» и слоган «IT WILL NEVER BE THE SAME» – с. 90). Взятые вместе, откровения и эзотерические тексты романа образуют особенный дискурс, значимый в произведении сам по себе, как важнейший фактор смыслообразования, и одновременно несколько иронически (на уровне, так скажем, языковой игры) отсылающий читателя к мощной культурной традиции дискурса пророчеств и священнописания.
Если рекламный дискурс в романе занимает предельно самостоятельное положение (так что порой бывает трудно определить, что доминирует в тексте романа – дискурс рекламы или собственно романный нарратив), то дискурс откровения (для простоты выражения опустим вторую часть в формуле его названия), напротив, со всей тщательностью изображен в романе. Он – внутри романа, тогда как рекламный дискурс – почти что вне его. Это и понятно, поскольку дискурс сокровенного знания вовлечен в самую фабулу романа, сопряжен с Татарским как фабульным персонажем.
В первый раз читатель встречается с текстовым образчиком дискурса откровения, когда Татарский находит в шкафу «папку-скоросшиватель с крупной надписью “Тихамат” на корешке» (41).
Сразу оговоримся: мы не будем касаться символической роли найденного Татарским текста (и последующих) – понятно, что сокровенное знание, заключенное в тексте, во многих отношениях задает дальнейшее развитие событий и самой судьбы героя – начиная от употребления коричневых мухоморов и заканчивая ритуальным браком с богиней Иштар. Наше внимание сосредоточено на другом предмете – а именно, на дискурсной природе этого и последующих текстов, содержащих сокровенное знание, открывающееся герою.
«Раскрыв ее, он прочел на первой странице: ТИХАМАТ-2. Море земное. Хронологические таблицы и примечания» (там же). Уже из этого краткого обращения к тексту видно, что дискурс откровения отчетливо тяготеет к формам научного (чаще – паранаучного) дискурса (что является весьма оправданным, поскольку это одновременно дискурс сокровенного знания). Жанровая сторона найденного текста вполне отвечает его дискурсным свойствам: «У него в руках было, судя по всему, приложение к диссертации по истории древнего мира» (там же).
Вместе с тем вирус дискурсного смешения, которым поражен роман в целом, проникает и в этот текст, порождая наукообразные и, вместе с тем, очевидно ненастоящие слова-монстры «Ашуретилшамерситубаллисту» и «Небухаданаззер» (42), в которых сомневается и сам повествователь: «Цари … были смешны: про них даже не было толком известно, люди они или ошибки переписчика глиняных табличек» (42—43). Во всяком случае, героя нашего романа эти псевдоимена отсылают если не к чему-то баллистическому, то к одной из ключевых национальных заповедей – «Не бухай»: «слово “Небухаданаззер” показалось ему отличным определением человека, который страдает без опохмелки» (43).
Другой характерной чертой изображенно-изобретенного дискурса откровения в романе выступает его отчетливый мифологизм – настолько очевидный, что нет особого смысла раскрывать его по существу, тем более, что этому посвящены специальные наблюдения и работы[91]. С точки зрения дискурсного анализа обращает на себя внимание, пожалуй, только одно – уже отмеченное нами в характеристиках рекламы смешение не только и не просто собственно дискурсных начал, но и самого предмета речи. Так, в один ряд с богиней Иштар многозначительно становится мухомор как «небесный гриб», «шляпа которого является природной картой звездного неба» (44), при этом (в полном соответствии с последующей фабульной линией Татарского как пророка и избранника) «коричневый мухомор … связывает с будущим, и через него возможно овладеть всей его неисчерпаемой энергией» (там же). Кто знает, если бы не нажевался Татарский в лесу мухоморов (заметим, коричневых), так, может быть, и не свершилось бы его финальное восхождение к богине Иштар.
Итак, рассмотренный выше текст тяготеет к жанру скучноватой диссертации, точнее, ее приложения, в рамках которого в порядке примечаний излагаются сокровенные знания, сопряженные с судьбой Татарского. Откровение здесь являет себя несобственным образом, посредством транслирующего научного дискурса. Следующее текстовое воплощение дискурса откровения представлено уже в совершенно адекватном этому дискурсу жанре трактата, мистическим образом явленного нашему герою посредством вызванного им духа Че Гевары. Любопытно самоопределение жанровой интенции этого текста: «Первоначально эти мысли предназначались для журнала кубинских вооруженных сил…» и т. д. (111). «Эти мысли» – данная характеристика отсылает к жанровому ряду размышлений, соображений, изложения доктрины и т. п. Собственно, весь этот жанровый ряд (включая и его высшую точку – трактат) принадлежит дискурсу философствования, с той только поправкой, что это философствование в нашем случае оказывается прагматически ориентированным на достижение некоего идеологического (или антиидеологического) результата – отсюда, по-видимому, и сам образ Че Гевары, как символа революционного действия.
Конечно же, само по себе включение в романный текст трактата не является новацией. Более того, с точки зрения исторической поэтики текстуальные проявления дискурса философствования в художественной литературе со времен Просвещения весьма закономерны. Пожалуй, действительно новым здесь является другое – ощутимая игровая интенция рассматриваемого текста (что, конечно же, является характерной чертой постмодернистской поэтики). Это не просто философствование и трактат, а в немалой степени дискурсная игра в философствование и жанровая игра в трактат, к тому же сдобренная языковой игрой в революционное письмо как таковое (ср. обращение к читателям трактата: «Соратники!», или вот это: «… великий борец за освобождение человечества Сиддхарха Гаутама во многих своих работах указывал…» и т. д. – с. 112). Можно выразиться несколько точнее – это игра, результатом которой является имитация натуральных дискурсов, причем такая имитация, имитированность которой подчеркнуто очевидна.