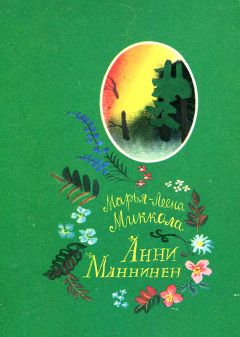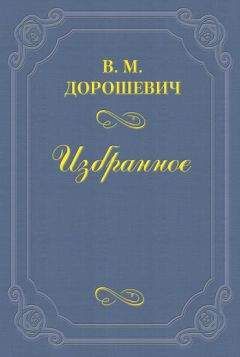Юлия Кокошко - Вертикальная песня, исполненная падающими на дерево
А один старик по фамилии Козодой летел с закрытыми глазами и нес под крылом домашние шлепанцы. Козодои впадают иногда в оцепенение, он и был какой-то приоцепенелый, и бормотал про бессмертную тещу, теща-столетник, она сломала ногу, но не позволила запеленать ее в гипс, пока я жива, сказала теща, никто не посмеет упрятать меня в темницу, ни пол меня, ни четверть меня, ни даже одну мою ногу! И она жила на кушетке.
— И кричит: «Ирочка, закрой балконную дверь, ты хочешь меня простудить!» — бормотал Козодой, не открывая глаз. — «Мама, я давно уже не открываю балконную дверь!» А она все кричит и кричит…
— Ах! — крикнула Бородатая Неясыть, потому что ремонт закончился, и суворовцы, отобедав домашним, разбив чашку и посулив ей целую чашу счастья, сбежали. — И это воспоминание из меня улизнуло, черт его разорви! Иногда я ощущаю себя октябрьской рощей, с которой ветер сдирает последние листья, и остаются голые белые косточки… Впрочем, — веско заметила она, — мне обещали новый зеленый мундир.
А Марья Романовна Орлан вспоминала библиотеку, она была предводительницей библиотеки. У нее на шее сидели две некомплектные библиотечные дивы. И дивы умели любить воскресной любовью, и они были добродетельны за всех земных грешников, и Марья Романовна мечтала… правда, о приличных партиях мечтать уже не приходилось, но когда появлялся читатель с хорошей должностью, Марья Романовна, мятежно сощурившись, говорила:
— Где же я слышала вашу фамилию… У вас жена, часом, не в печати работает?
И если читатель отвечал:
— Нет, в зоопарке номер шестнадцать, — Марья Романовна теряла к нему интерес.
А если читатель, посмеиваясь, сообщал, что еще не женат, Марья Романовна ставила в верхнем углу его формуляра маленькую птичку. И, красноречиво подмигивая, кричала:
— Юлия Михайловна, обслужите-ка читателя! Почему я, директор, сижу вместо вас на выдаче?! — и ловко подсовывала диве зарубежный детектив из заветного шкапчика.
И она летела и с прискорбием думала, что время атакует, идет свиньей! — и размазни из библиотечной юдоли, неблагодарно хлопающие крыльями, когда Марья Романовна пыталась решить их судьбу, фу-ты, ну-ты, останутся на бобах, как она.
А златоперый Рыжий Петух вынул из перьев плоскую серебряную фляжечку и отвинтил пробочку, и глотнул. Он подлетел к мрачной, но самой молодой в стае личности, Вороне Обыкновенной в Очках, и спросил:
— Хотите увидеть жизнь в истинно прекрасном свете, а не такой, как она вам кажется?
— Пожалуй, — сказала мрачная молодая личность.
Но сколько бы они ни таскали поэтических томиков и сколько бы ни рядились в небожительские личины — драные свитера и дотертые до нуля джинсы, на лицах данных личностей стоит печать порока! Так думал Зеленый Кардинал, глядя, как молодая личность беззастенчиво отхлебывает из фляжечки, а Кардинал уже научился не только говорить, но и процеживать сквозь клюв, и слова получались острыми и плоскими бритвами.
— Я бы всех пьяниц поубивала! — процедила Елена Григорьевна Зеленый Кардинал. — Или в тюрьму их упечь, чтоб неповадно было. А я сама за всю жизнь капли в рот не взяла, вот так!
— Дайте, дайте скорей закусить, уфф… — поперхнувшись, говорила Ворона. — Что это?
— Коньяк «Наполеон», ваша Воронья Милость, — отвечал Петух. — Сигарету? — и он угостил ее сигаретой «Кэмел». — Или предпочитаете бургундское? Однажды в день защиты приятеля я явился на банкет в нежном костюме песочного цвета, я был чрезвычайно хорош в нем, я был ослепителен! И его аспирантка Ритка Глотова, тц-ц, какая девочка, облила мне жилет и брюки красным вином, опрокинула бутылку на стол и облила, собака! — и Петух хохотал, свистел, хрипел и тренькал. — И как, вы думаете, я поступил? — торжествующе спрашивал он. — Как в таких случаях поступают настоящие мужчины?
А мрачная молодая личность пугалась сквозь очки и улыбалась дрожащей, недотянутой улыбочкой.
— Собрали в дорогу вино и провиант и выступили в химчистку? Нет, вы, конечно, выпороли Ритку, — говорила она, — сознайтесь, каким-нибудь свежим розовым букетом?
— Ах, оставьте ваши пошлости. Речь о настоящих мужчинах! — победно кричал свистящий Рыжий Петух. — Я! Снял! Галстук! И вытер им со стола! А потом Ритка рыдала у меня на груди, она влюбилась в меня навсегда. У нее до сих пор висит в прихожей мой галстук.
А старуха Нина Петровна Соловей летела и пела, не зря же она превратилась в соловья! А в библиотеке она работала под Марьей Романовной Орлан, но относилась к ней неоднозначно. В первом слое Нина Петровна обожала ее, а во втором — на дух не переносила, а в третьем отмечала, что Марья Романовна живет на широкую ногу, а я после трех работ — совсем без ног, и голова на одной привычке держится, а в четвертом восхищалась ее умением вертеться, а в пятом — осуждала Марью Романовну за конформизм и бесхребетные кредо. А в промежутках Нина Петровна любила пожужжать о Марье Романовне с соседями по квартире или по автобусу, и это — самая вкусная сливочная промазка!
— Ведь и тут, вы подумайте, — говорила она соседке по стае кулик-сороке, — а? Каков у нее размах крыльев! Но зато она не умеет петь, как я. Так петь!
И она пела соловьем, а поскольку Марья Романовна летела неподалеку, она пела Песню Без Слов, что сводилась к следующему: работая в библиотеке, Нина Петровна любила читать, особенно из заветного шкапчика Марьи Романовны, где содержались детективы и другие программные произведения для знакомых читателей. И раз Марья Романовна подсунула ей оскорбительную книгу «Манон Леско». «Вы нарочно подсовываете мне книги про бедность? — спросила Нина Петровна. — Намекаете, что я тоже бедная?!» На что Марья Романовна пламенно ответила: «Дура ты, Нинка! Это не про бедность. Это про любовь!» А Нина Петровна сказала: «От такой слышу!» — да спохватилась, а лучше б написала жалобу в народный суд. Вот об этом она летела и пела — о своих несбывшихся мечтах.
А рядом пролетала Райская Мухоловка Серафима Андреевна, она была пронзительно авторитетна у новых старых знакомых на лавочках, и она сказала:
— Да разве так поют, милочка? Да разве поют об этом?!
Райская Мухоловка торговала соками в магазине «Овощи, фрукты и просто продукты», но такая ерунда не очень-то интересна, да она и забыла подробности, и в хорошие минуты дерзновенно вспоминала, как работала сельской учительницей и однажды ликвидировала безграмотность населения. А в другие хорошие минуты, с другими хорошими людьми сетовала на усталость от сценической славы. А поскольку об этом вспоминала она, а не дядя, значит это и были ее воспоминания, ее собственные!
— Учитесь у меня, как надо петь, — утомленно произнесла она. И прочистив горло и отослав наступательную улыбку Рыжему Петуху, она выстрелила в небо:
— Ча-а-сти-ца ч-черта в нас
заключена подчас.
Ковар-р-рный женский взгляд
в душе рождает ад.
— Ад, сущий ад… — бормотал Козодой. — Каждый день: «Мама, если ты еще раз скажешь про балконную дверь, я немедленно ставлю кипятить шприц». Она боится уколов…
— Да провались ты со своей сломанной тещей, зануда! — надменно говорила Ангелина Семеновна Кукушка. — Чтоб я хоть раз пожаловалась на родственников… Я покупаю им подарки и разношу по субботам в необеденное время. И при мне ни у кого ничего не болит!
И она летела и присматривалась к Венценосному Журавлю, а на Рыжего Петуха она не смотрела. Ей, конечно, был больше по нраву Рыжий Петух с его широкими доблестями и наполеоновской фляжечкой, и рассказ о галстуке вырвал из серой кукушачьей груди стон восхищения, но Ангелина Семеновна была птица здравомыслящая и понимала, что Рыжий Петух уже умер, и осталось лишь горько его оплакивать. И хвалиться всем напропалую, что он был ее близким приятелем, что там ваши-наши-ихние, а вот у меня был приятель — ооо, какой фейерверк! Он был украшением нашей планеты — да, он! — а не те, на кого вы думали до сих пор, воображаю, что он вытворяет сейчас на том свете! — а на ЭТОМ он волочился за мной, лучше Рыжий Петух в небе, чем журавль, хо-хо! — но журавль тоже недурно. И для затравки она попросила у Венценосного автора его информацию и прочитала слева направо и справа налево, и сочинила из слова «интенсификация» два новых: акция и фикция, и воскликнув:
— Да я в жизни не читала ничего талантливее! — вымолила у польщенного Журавля автограф.
— А что ты вообще читала? Один блуд на уме! скрежетал Зеленый Кардинал. — Ничего, кроме «Блудного сына» и не читала.
А рядом летел Пересмешник и хохотал.
— Я не алкала и не халкала, я соблюдала заповеди! — кричал он голосом Зеленого Кардинала. — Я соблюдала сто двадцать заповедей! Моя постель была заминирована. Любуйтесь птицей нежного цвета плесени!
— Ты не способен ценить добродетели, потому что твоя башка набита глупостями. Ты прославился ими на земле, а теперь прославишься в небе. Тебя для меня нет! — говорил Кардинал. — Я серьезная птица, а тебя я всерьез не принимаю.