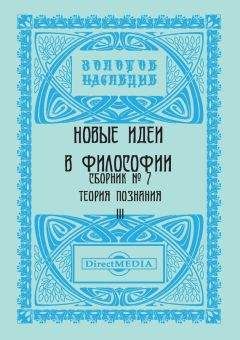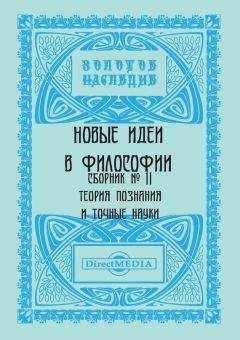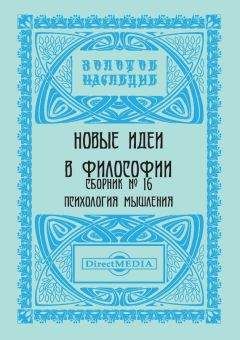Дмитрий Токарев - Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Д.Хармса и С.Беккета
Самоубийство девушки, спровоцированное Джо, не означает парадоксальным образом абсолютной смерти; девушка продолжает жить в голосе другой женщины или, точнее, просто в голосе женщины, не важно какое имя она носит. Этот голос причиняет Джо большие страдания, чем боль от неудавшейся любви; теперь его терзает боль вечного «пережевывания» (пьеса «Шаги»), По мнению Альфреда Симона, этот голос, вещающий то от первого, то от третьего лица, смешивается с голосом нынешней любовницы Джо[90]. Поэтому женщина угрожает ему как бы на двух уровнях: на уровне половой любви (любовница) и на уровне сексуальности как таковой (голоса). Но в сущности оба этих голоса едины, и, проникая в голову другого, они навязывают ему свой собственный дискурс. Мужчина превращается в бессильного пассивного слушателя, уподобляясь персонажу пьесы «Не я» (1972). Непонятная половая принадлежность этого существа, подчеркнутая широкой джеллабой с капюшоном, свидетельствует о разрушении маскулинности, которая ведет к разрушению личности как таковой. Что касается парящего над пустой темной сценой Рта, то его функция — материнская: он производит на свет слова и в этом подобен утробе, выталкивающей детей в бесконечность существования[91]. Таким образом, опасность женского бессознательного дискурса вытесняет опасность, которая заключалась в сексуальной привлекательности женского тела.
Произнося свой бесконечный монолог, Рот лишает мужчину возможности поговорить о смерти, делает его бессловесным, а ведь для того, чтобы обрести смерть, нужно выговорить, произнести ее. Почему Генри из радиопьесы «Зола» так ненавидит свою жену и дочь? По той лее самой причине: они мешают ему говорить о смерти со своим мертвым отцом:
Из-за чего она так настроилась против меня, как ты думаешь? — говорит он, имея в виду свою жену Аду. — Наверное, из-за девчонки — отвратительное маленькое существо, Господи, лучше бы ее у нас не было, я с ней гулял по полям, и какой это ужас был, Господи Иисусе, вцепится в мою руку, а я не могу говорить и с ума схожу: «А теперь побегай, Адочка, погляди на овечек». (Изображая голос Адочки.) «Нет, папа». — «Иди, иди побегай». (Слезливо.) «Нет, папа». (В бешенстве.) «Кому сказано — иди погляди на овечек!» (Громкий рев Адочки. Пауза.) Ну и Ада — тоже, с ней разговаривать — это же Бог знает что, это, наверное, как в преисподней разговоры, под лепет Леты, про доброе старое время, когда мы еще только мечтали о смерти.
(Театр, 254)Вспоминается пьеса Сартра «За закрытой дверью», герои которой даже в аду не перестают говорить, быть вместе; ад — это «толки», которые не дают сделать смерть реальной.
Беспочвенность толков не запирает им доступа в публичность, но благоприятствует ему, — считает Хайдеггер. — Толки есть возможность все понять без предшествующего освоения дела. Толки оберегают уже и от опасности срезаться при таком освоении. Толки, которые всякий может подхватить, не только избавляют от задачи настоящего понимания, но формируют индифферентную понятливость, от которой ничего уже не закрыто[92].
Генри хочет освободиться от «толков», хочет разорвать родовые связи, «отгородиться от кокосовой пальмы рода»[93], как говорит другой беккетовский персонаж, но его жена и дочь продолжают удерживать его на этой «бедной старой нищенке Земле» (Уотт, 47). Не случайно, что «Зола» — пьеса радио-фоническая: ее персонажи не имеют тела и существуют лишь в виде голосов, доносящихся из «мертвой пустоты» (см. стихотворение Хармса «Что делать нам?»). Эта пустота говорит[94], и ее безостановочный дискурс удерживает героя в ловушке бытия.
Нет, надо найти что-то другое, — говорит герой «Никчемных текстов», — более ясную причину, чтобы это прекратилось, другое слово, более ясное понятие, чтобы превратить его в отрицание, новое «нет», отменяющее все другие, все эти старые «нет», которые засунули меня сюда, на дно этого несуществующего места, которое является лишь сроком бесконечного часа и называется «здесь», и на дно этого несуществующего существа, которое называется «я», и этого невозможного голоса, все эти старые «нет», которые качаются в темноте как пожарная лестница, да, новое «нет», которое говорится лишь раз, которое открывает свой рот и жадно пьет меня, сотканного из мрака и болтовни, в том отсутствии, которое не так тщетно, как отсутствие существования[95].
5. Значенье моря
Существование — это отсутствие, но отсутствие ложное, отсутствие истинного «я», достижение которого выступает необходимым условием приближения смерти, смерти как настоящего отсутствия, настоящего, «длящегося» молчания, которое так страстно призывает Безымянный. Новое «нет», отменяющее все другие, можно сказать лишь один раз; но чтобы вести к молчанию, оно должно обладать таким качеством, как «сухость»:
Я хочу слышать сухие, резкие звуки! Сухие! — восклицает Генри. — Вот так! (Он собирает гальку, ударяет два камня один о другой.) Камень! (Звук ударяющихся друг о друга камней.) Камень! (Удар. Крик «Камень!» и звук удара слышны все громче, потом все обрывается. Пауза. Он бросает камень. Слышно, как он падает.)[96].
«Сухие», «резкие» звуки ударяющихся друг о друга камней противостоят «мягкости», аморфности водной стихии; недаром Генри говорит о «засасывании». Звук моря не отпускает героя, обволакивая, засасывая, высасывая его. Винни из пьесы «Счастливые дни» употребляет то же слово, спрашивая своего мужа, нет ли у того ощущения, что его «засасывает»[97]. Само слово «смерть» должно быть твердо как камень; только при этом условии оно сможет «пробить» бесконечный дискурс бессознательного, напоминающий безбрежность морской глади.
Сегодня оно тихое, — говорит Генри о море, — но часто я его слышу даже дома или бродя по дорогам и начинаю говорить, ах, просто чтоб его заглушить, а никто ничего не замечает. (Пауза.) Но теперь я, где бы ни был, все говорю, говорю, раз поехал даже в Швейцарию, чтобы быть от этого проклятья подальше, и все время там не умолкал.
(Театр, 251)Море, эта изначальная влага, humidum radicale, символизирует здесь то состояние первородного хаоса, которое предшествует зарождению времени[98]. «Я утратила понятие времени»[99], — говорит Ада. Море-бессознательное не имеет границ, а значит, конца, поэтому смерть, как событие конкретное, реальное, невозможна. Так, исчезновение отца Генри, который, судя по всему, утопился в море, не является чем-то окончательным, ведь его сын слышит время от времени шорох его сабо по гальке[100]. Голоса Ады и Адочки также принадлежат сфере вневременного и внесознательного, где понятия жизни и смерти теряют свою определенность. Они приходят издалека[101], но Генри слышит их хорошо, так как «мертвая пустота», откуда они доносятся, — это пустота его головы. Они подобны шуму моря, или шороху сабо по гальке[102], или же, как говорит Владимир в «В ожидании Годо», шороху пепла. «Мы неистощимы», — утверждает он; «чтобы не слышать все эти мертвые голоса», — подхватывает Эстрагон. Эти голоса говорят хором, «им мало, что они жили», «им мало, что они умерли» (Театр, 83–84)[103].
В «Золе» символика моря — Великой Матери, начала всего живого — играет чрезвычайно важную роль[104]. Бросившись в море, отец Генри совершает то, что он должен был бы совершить еще до рождения сына: он разрывает путы рода и возвращается в лоно матери. Согласно Башляру, «из всех четырех стихий лишь вода может убаюкивать. Это баюкающая стихия. Такова особенность ее женской природы: она баюкает как мать»[105]. Да и отношение Ады к своему мужу напоминает скорее отношение матери, чем жены. Чрезвычайно характерна и поза отца Генри, которого Ада видит, вероятнее всего, перед тем, как он бросился в море:
Отец встал и вышел, хлопнув дверью. Я ушла почти тут же, и я прошла мимо него. Он меня не видел. Он сидел на камне и смотрел на море. Не могу забыть его позу. И ничего ведь особенного. Ты тоже иногда так сидел. Может, именно в неподвижности этой все дело, он будто обратился в камень. Так я и не смогла разобраться.
(Театр, 261)Когда отец Генри бросается со скалы, его тело, подобно камню, должно пробить однородную массу моря, другими словами, преодолеть затягивающую силу бессознательного. Но стремится он, в отличие от Хармса, не к состоянию просветления, а к состоянию абсолютной пустоты, несуществования. «Я беру зеркало, — говорит Винни, — разбиваю его вдребезги о камень — (так и делает) — выбрасываю — (зашвыривает зеркало за спину) — а назавтра оно снова в сумке, целехонькое, и снова помогает мне продержаться день. (Пауза.) Нет, тут ничего не поделаешь. (Пауза.) Ведь это просто чудо что такое, просто… (пресекающимся голосом, голова опущена) чудо… а не вещи» (Театр, 285–286). Похоже, что невозможность разбить зеркало отражает неразрушимость бытия-в-себе Винни, физическое состояние которой, не переставая ухудшаться, не приводит тем не менее к окончательному растворению в небытии[106]. Чудо смерти превращается в чудо самовоспроизводства феноменального мира. Море тоже неразрушимо; бросок камня вызывает лишь легкое волнение на его поверхности. «Это ведь только на поверхности так, — говорит Ада. — Внизу — тишина, как в могиле. Ни звука. Весь день, всю ночь ни звука» (Театр, 260). Самоубийство отца Генри, по сути, не нарушает спокойствия глубинных пластов бытия-в-себе; так разрушается сама оппозиция «жизнь — смерть». Боултон, герой истории, которую рассказывает Генри, и, вероятно, не кто иной, как его отец, уже живет в мире, лишенном звуков и движения: «Огонь погас, и мороз трещит, и мир весь белый, какая скорбь, ни звука»[107]. Генри, как и Боултон, как Крэпп, как множество других беккетовских персонажей, остается наедине со своими мертвыми голосами; «полночь миновала, — свидетельствует Крэпп. — Никогда я не слышал такой тишины. На земле будто вымерло все» (Театр, 222)[108].