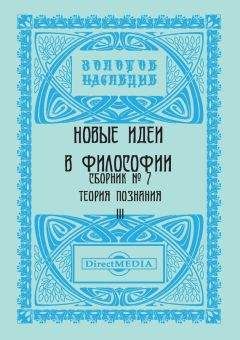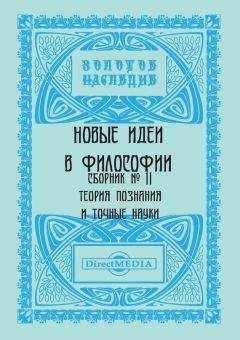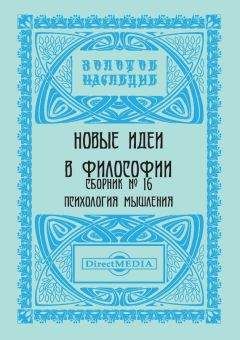Дмитрий Токарев - Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Д.Хармса и С.Беккета
Первородный грех, — пишет Бердяев, — связан прежде всего с половым разрывом, с падением андрогина, с падением человека как существа целостного, с утерей человеческой девственности и образованием дурной мужественности и дурной женственности[75].
Хармсовские тексты демонстрируют ту же закономерность: грехопадение проявляется как возникновение пола и как потеря райской целостности, гармоничности, что приводит к появлению сознания, а всякое сознание, по словам Бердяева, есть сознание несчастное[76]. Хуже всего то, что появление сексуальности является тем детонатором, взрыв которого запускает в действие цепную реакцию причинно-следственных связей: утеря бессознательности райского существования влечет за собой осознание своей наготы и в результате стыд и потребность прикрыть ее. Только осознав наготу как что-то постыдное, человек и становится человеком; теперь он должен жить в мире, где «я» противоположно «ты», а «они» будут вечно стремиться подчинить себе конкретного человека, ассимилировать его «я». «Мне стыдно», — говорит Адам в хармсовском «Грехопадении», и это признание кладет начало пугающему «развертыванию», разрастанию мира, в котором каждый предмет требует появления другого, затягивая человека в паутину причин и следствий. Такое окружение себя предметами Хармс называет, в «Трактате более или менее по конспекту Эмерсена» (1939), неправильным (см. далее, с. 288–289[77]).
3.4. Нагота и безгрешность
Мотив наготы вновь возвращает нас к феномену эксгибиционизма. Действительно, фраза Хармса «не надо стесняться своего голого тела» приобретает в данном контексте особое значение: если стыд характерен для эпохи материализма и греха, то бесстыдство знаменует собой возвращение в эпоху безгрешности и религиозности. Тезис о том, что эксгибиционизм Хармса вызван желанием продемонстрировать свою маскулинность, не только не противоречит данному положению, но и оказывается с ним тесно связанным: обнажение своего тела есть прежде всего вызов, который мужчина бросает всепоглощающей сексуальности женщины, надеясь редуцировать ее за счет противопоставления ей своей маскулинности. Этот вызов принимает подчас чрезвычайно агрессивную форму; садистское удовольствие, испытываемое Козловым («—Да, — сказал Козлов…»), с наслаждением смакующим подробности измывательств, которые пришлось претерпеть Елизавете Платоновне, объясняется все тем же стремлением умалить сексуальность женщины, разрушив привлекательность женского тела. Характерно, что Елизавета Платоновна однонога; тем самым подвергается радикальной редукции сама эротичность женского тела, имеющая, согласно Л. Липавскому, двойственную природу: с одной стороны, эротично то, что живет самостоятельной и безындивидуальной жизнью, то, что нарушает границы между объектами, разрушая их самость, и эта же «разлитая, неконцентрированная жизнь» внушает безотчетный страх:
В человеческом теле эротично то, что страшно. Страшна же некоторая самостоятельность жизни тканей и частей тела; женские ноги, скажем, не только средство для передвижения, но и самоцель, бесстыдно живут для самих себя. В ногах девочки этого нет. И именно потому в них нет и завлекательности.
Есть нечто притягивающее и вместе отвратительное в припухлости и гладкости тела, в его податливости и упругости.
Чем неспециализированнее часть тела, чем менее походит она на рабочий механизм, тем сильнее чувствуется его собственная жизнь.
Поэтому женское тело страшнее мужского; ноги страшнее рук, особенно это видно на пальцах ног.
(Чинари—2, 87)[78]Женское тело, в силу своей самодостаточности и безындивидуальности, не может не оказывать разрушительного влияния на индивидуальность мужского тела; самообнажение есть тогда не что иное, как попытка сопротивления власти бессознательного, безличного: выставляя напоказ свое тело, мужчина как бы доказывает себе и женщине, что у него есть его собственное тело, отличное от других, тело, которое имеет границы и способно сопротивляться «обтекаемости» женского тела. По словам Бердяева, «именно женская стихия и есть стихия родовая по преимуществу. В мужском же всегда сильнее личность. Рабство человека у пола и рода есть рабство у женской стихии, восходящей к образу Евы. Только в женщине пол первичен, глубок и захватывает все существо. У мужчины пол вторичен, более поверхностен и более дифференцирован в особую функцию. <…> Родовое в поле имеет глубину и значительность лишь в женщине. Мужчина же стремится от него поверхностно освободиться»[79]. Половой акт представляет собой ту крайнюю, предельную точку, в которой происходит отказ от самого себя, от своего «я»; в нем воля человека попадает, если воспользоваться выражением Шопенгауэра, в водоворот воли рода[80]. Не случайно поэтому, что условием высвобождения из-под власти женской сексуальности является уклонение от совокупления (см. стихотворение «Жене»), Бердяев, проводя границу между женской стихией рождения и мужской стихией творчества, признает тем не менее, что женщина вдохновляет мужчину на Творчество[81]; воззрения Хармса более радикальны: вдохновение для него — это та сила, которая по самой своей сути противоположна самодостаточности женской сексуальности.
Если в поэтический период своего творчества Хармс стремился к творческой сублимации половой стихии (подробнее об этом см. в 4-й главе), то проза свидетельствует о смене ориентиров: отказавшись от мысли достичь состояния сверхсознания, Хармс пытается преодолеть напор бессознательного и вернуться на твердую почву сознания. Именно поэтому желание доказать, что он обладает своим собственным телом и, следовательно, своим собственным «я», выглядит вполне оправданным. Но оно же несет в себе опасность вновь оказаться в пределах ограниченного, «нечистого» тела, эквивалентом которого на психическом уровне оказывается «дурная» бесконечность разорванного сознания. Смерть такого тела не является настоящей, истинной; от него сразу же отпочкуется другое тело, восстанавливая тотальность «замусоленного», как сказано в декларации «ОБЭРИУ», мира. Неудивительно, что «болезнь к смерти» (Кьеркегор), от которой страдал Хармс во второй половине тридцатых годов, превращается в стремление к полному уничтожению мира, к абсолютному концу света. В этом динамика его творчества идентична динамике творчества Беккета: так, смерть Мэрфи, которая пока что не нарушает равновесия мира, постепенно перерастает в исчезновение всего человеческого рода — этот процесс принимает особо впечатляющие формы в «Безымянном» и в более поздних небольших пьесах.
С этой точки зрения, само понятие эксгибиционизма может быть интерпретировано по-новому. Сама семантика этого слова предполагает наличие кого-то, кто находится вне субъекта эксгибиционистского акта. Другими словами, невозможно быть эксгибиционистом в одиночестве, поскольку акт самообнажения подразумевает присутствие женщины, которой он адресован. В этом смысле он является актом иллогическим и может быть уподоблен антикоммуникации à la. Ионеско: оба они существуют за счет того, что им противопоставлено. Примечательно, что герой Беккета предпочитает не раздеваться в присутствии женщины; так ведет себя, к примеру, персонаж «Первой любви»:
А вы не разденетесь? — она говорит. О, знаете ли, говорю, я редко когда раздеваюсь. Что правда, я не из тех, кто чуть что и, пожалуйста, раздеваются. Я часто снимаю ботинки, ложась в постель, то есть когда я располагаюсь (располагаюсь!) спать, ну и верхнюю одежду в зависимости от внешней температуры[82].
Такое поведение очень резко контрастирует с тем, как ведет себя женщина, всегда готовая раздеться: провоцируя возбуждение у мужчины, она утверждает свое собственное присутствие, свое собственное бытие. Мужчина, напротив, пытается вырваться из-под ее власти, и для этого он прячет свое тело, предпочитая сохранить некую оболочку, защищающую его от притязаний женщины. В «Моллое» Лycc пользуется сном героя, чтобы раздеть его: «Проснулся я в кровати, без одежды, — говорит Моллой. — Ее наглость дошла до того, что меня вымыли, судя по запаху, который я издавал, уже не издавал. Я подошел к двери. Заперта на ключ. К окну. Зарешечено» (Моллой, 38). Лусс навязывает Моллою свое присутствие, убеждая его, что он нуждается в ней:
Я был ей нужен, чтобы помочь избавиться от собаки, а она мне забыл зачем. Наверняка она это сказала, ибо приличие не позволило мне обойти молчанием сделанный намек, и я, не колеблясь, заявил, что не нуждаюсь ни в ней, ни в ком бы то ни было другом, и, вероятно, несколько преувеличил, ибо в матери я наверняка нуждался, иначе откуда такое упорное желание добраться до нее?