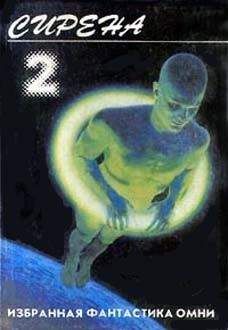Роберт Криз - Призма и маятник. Десять самых красивых экспериментов в истории науки
Философ Иммануил Кант также противопоставлял ученых и художников, однако по другим критериям. По словам Канта, настоящего «гения» невозможно найти среди ученых, способных объяснить себе и другим причины и цели своей деятельности. Несмотря на распространенное возвеличивание некоторых из них, типа Ньютона, истинные «гении» существуют только среди людей искусства. Ученые могут научить своему труду других, деятели искусства же создают в самом прямом смысле слова оригинальные произведения, тайна творения которых неизвестна и непознаваема:
«Ньютон мог сделать совершенно наглядными и предназначенными для того, чтобы следовать им, все свои шаги от первых начал геометрии до своих великих и глубоких открытий, и не только самому себе, но и любому другому; между тем Гомер… не может сказать, как возникают и сочетаются в его сознании полные фантазии и вместе с тем глубокие идеи, потому что он сам этого не знает, а следовательно, и не может научить этому другого»45.
Возражая против подобного противопоставления, ученый Оуэн Джинджерич дал превосходное обоснование сходства, существующего между учеными и художниками. Ученые хотя бы отчасти лично ответственны за структуру своих теорий и далеко не все в их открытиях заранее предопределено природой. Ньютонова картина мира совсем не неизбежна, заявляет Джинджерич, потому что из других источников (таких, как, например, законы сохранения) могут быть получены альтернативные объяснения кеплеровских законов. Альтернативный подход Джинджерича подчеркивает роль воображения, индивидуального творчества, а следовательно, и исключительность открытий Ньютона:
«„Математические начала натуральной философии“ Ньютона – его личное достижение, благодаря которому он как творец может быть поставлен в один ряд с Бетховеном и Шекспиром».
Джинджерич предостерегает против далеко идущих аналогий в сравнении Ньютона и Бетховена:
«Синтез знания, представленный в крупной научной теории, не совсем то же самое, что и упорядочивание компонентов художественного произведения. Научная теория имеет свой объект в природе и может быть подвергнута экспериментальной проверке, дальнейшему развитию и фальсификации. Научные достижения могут быть вполне законным образом и зачастую даже обязательно преобразованы в другие тексты (кто, кроме историков, в настоящее время читает «Начала» Ньютона?) такими способами, которые для произведений искусства просто немыслимы. Ну и, наконец, прогресс в науке принципиальным образом отличается от прогресса в искусстве».
Тем не менее, заключает Джинджерич, внимательный анализ «сравнения Ньютона – Бетховена» – по сходству и по контрасту – дает нам «более тонкое и глубокое представление о природе научного творчества». И если Кант и традиционные взгляды не оставляют места для красоты в научных теориях, то Джинджерич это место ей возвращает46.
Французский философ и астрофизик Жан-Марк Леви-Леблон в мысленном эксперименте попытался вообразить, какой была бы теория относительности, если бы ее открыл не Эйнштейн. В результате он получил совершенно другую терминологию, символы и идеи по сравнению с теми, которые ассоциируются с данной теорией ныне47.
Если же мы от теории перейдем к экспериментам, то «сравнение Ньютона – Бетховена» приобретет еще одно измерение. Эксперимент часто рассматривается неспециалистами как почти автоматический процесс, подразумевающий минимум творчества.
С такой точки зрения эксперимент должен напоминать игровое шоу «Концентрация», которое демонстрировалось на канале NBC с 1958 по 1991 год.
Соревнующиеся должны были обнаружить и как-то интерпретировать то, что находилось по другую сторону стены, состоявшей из вращающихся блоков. В ходе игры блоки вращались по одному, открывая часть скрытой картины, представленной словами и символами, которую участники соревнования должны были разгадать. Блоки вращали находившиеся за кулисами рабочие – «экспериментаторы», которые использовали специальные механизмы. Этот механический процесс не представлял никакого интереса для участников шоу, обращавших внимание только на данные, появлявшиеся на стене.
Но любой реальный экспериментатор скажет, что такой взгляд на эксперимент абсолютно ложен. В хорошем эксперименте нет ничего автоматического и заранее заданного. Чтобы это понять, необходимо воспринимать эксперимент одновременно и как процесс, и как результат. Однако чтобы полностью понять то, что имеется в виду, нужно смотреть на эксперимент как на историю, почти как на человеческую биографию. В истории эксперимента, так же, как и в человеческой жизни, есть все: зачатие, беременность, рождение, рост и – при удачном стечении обстоятельств – зрелость. Для подобного процесса, несомненно, необходимо и то, что Кант называл гениальностью и для чего не существует никаких заранее заданных правил.
Кант был, бесспорно, прав в том, что стиль и традиция функционируют по-разному в науке и в искусстве. Эксперименты с призмой исторически восходят к Ньютону, эксперименты с точными измерениями – к Кавендишу, эксперименты с интерференцией света – к Юнгу, а эксперименты с рассеянием частиц – к Резерфорду. Историки, изучающие серии экспериментов, проводившиеся одним экспериментатором – к примеру, Фарадеем, Вольтой, Ньютоном или Франклином, часто могут определить характерные особенности исследования этими учеными того или иного феномена и разработки ими новых экспериментов для его понимания.
Тем не менее ни один эксперимент невозможно охарактеризовать как «Ньютонов» или «подражание Ньютону» в том же смысле, как живописное полотно может быть определено как принадлежащее Караваджо или кисти какого-нибудь подражателя Караваджо. Экспериментальная работа требует наличия несколько иного типа творческой изобретательности, которая, однако, также зависит от творческой способности человека и силы его воображения; она столь же непредсказуема и создает собственную традицию образцов путем открытия новых областей исследования.
Научное воображение отличается не меньшей дисциплинированностью, нежели художественное. Оно функционирует в рамках имеющихся в наличии ресурсов, теорий, продуктов, бюджета и персонала, организуя все перечисленное в некий процесс, позволяющий открыть нечто принципиально новое. Разумеется, никто не откажется от щедрого бюджета и высококлассных материалов! Однако воображение экспериментатора тем и отличается, что способно в малом находить преимущество. Как однажды заметил Гете: «Лишь в чувстве меры мастерство приметно» [5]. С этой точки зрения, сопоставление Ньютона и Бетховена приводит к выводу, что художники и ученые имеют больше сходства, чем различия, а это с несомненностью подтверждает, что красоте есть место и в науке.
Рис. 8. Experimentum crucis (рисунок Ньютона)
Глава 4. Experimentum crucis
В январе 1672 года Исаак Ньютон (1642–1727) направил короткую записку Генри Ольденбургу, секретарю незадолго до того созданного Лондонского королевского общества – объединения известных ученых (или «философов», как их тогда именовали). Ньютона приняли в общество всего лишь за неделю до того – на его членов произвела сильнейшее впечатление изобретенная Ньютоном новая разновидность телескопа, телескоп-рефлектор. В послании Ольденбургу Ньютон делал поистине вызывающее заявление:
«Я совершил „философское открытие“, – писал Ньютон, – по моему мнению, самое странное, если не самое значительное из всех, которые до сей поры совершались в сфере действий природы»48.
Вряд ли кто-то стал бы винить Ольденбурга, если бы он принял это заявление за нелепые и наглые бредни страдающего болезненным самолюбием юнца. Ньютон и впрямь был крайне сложным человеком: чрезвычайно ранимым и одновременно крайне агрессивным, и при этом еще и параноидально скрытным. Однако в данном случае его претензия на эпохальное открытие была вовсе не преувеличением.
Несколько недель спустя Ньютон отослал членам Королевского общества описание эксперимента, который, по его словам, самым определенным образом демонстрировал, что солнечный свет является не однородным, как считалось ранее, но состоит из смешения лучей различных цветов. Ньютон назвал свой эксперимент experimentum crucis , или «решающим», «критическим экспериментом». Разложение света Ньютоном стало одновременно заметной вехой в истории науки и сенсационной демонстрацией возможностей экспериментального метода. Названный эксперимент, как писал один из многочисленных биографов Ньютона, «был так же прекрасен в своей простоте, как и убедителен в качестве воплощения ньютоновской теории»49.