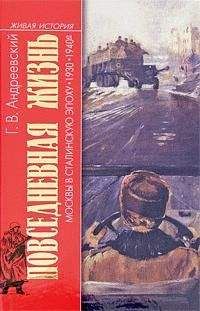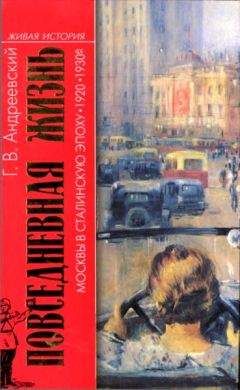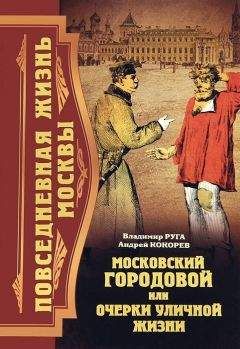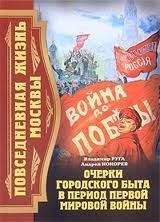Георгий Андреевский - Повседневная жизнь Москвы на рубеже XIX—XX веков
Немало евреев, оказавшись в России, потянулось к литературе, музыке, театру и изобразительному искусству. Этому способствовали как природные склонности, так и то, что евреи с детства были приучены к зубрёжке в работе с текстами и рассуждениями на религиозные темы. Ограничение проживания евреев за чертой оседлости по религиозному принципу привело к тому, что евреи в массовом порядке стали принимать христианство — переходить в православие и лютеранство. Таких называли «выкресты».
Неизвестная русская литератураТемы искусства, литературы были не чужды и москвичам. Помимо классиков, которых мы «проходили» в школе, в России, и в частности в Москве, существовало множество писателей и поэтов, имена которых нам неизвестны или давно позабыты. А ведь тогда, в конце XIX — начале XX века, некоторые из них имели чрезвычайную популярность. Взять хотя бы А. М. Пазухина, автора многочисленных романов и повестей с благополучным концом, таких как «Буря в стоячих водах», «Дисконтёр», «Московские коршуны» и многих, многих других. Каждый год он писал по три-четыре довольно крупных произведения и публиковал их в газетах. Помимо этого, в газете «Московский листок» он постоянно описывал сценки московской жизни. Говорили, что, если опубликовать всё, что он написал, получилось бы 200 томов! «Был он бедняк, — свидетельствовал Гиляровский, — типический литератор-пролетарий, семейный, бедный и, конечно, здорово пил… Он оказался идеалистом-романтиком чистейшей воды, даже странным для литературной Москвы беспутного конца века… Под влиянием проповеди служения народу он в 60-х годах, покинув гимназию, стал народным учителем. Восемь лет преподавал в Ярославской губернии, служил чиновником для особых поручений при ярославском губернаторе, а в 30 лет перебрался в Москву». В 1898 году «Московские ведомости» писали о нём: «Он властелин дум может быть десятка миллионов читателей, которые и слыхом не слыхали о Чехове, Максиме Горьком и даже Льве Толстом».
Мало кто помнит теперь А. К. Шеллера-Михайлова, А. Н. Цехановича — автора «Русского Рокамболя», драматурга И. В. Шпажинского, Василия Ивановича Немировича-Данченко — известнейшего тогда писателя, вскрывавшего интересные факты и рассказывавшего истории из жизни разных стран и городов. Он был так популярен, что Владимира Ивановича Немировича-Данченко — соратника К. С. Станиславского, в шутку называли «братом своего брата».
Почти позабытый в наше время поэт К. М. Фофанов уже тогда, до Маяковского, стал играть с рифмами. Например, так;
Это не женщина, друг мой,
Эдема нам
Не открывает она бесконечного,
Это злой гений,
ниспосланный демоном.
Было в то время немало и газетных поэтов, пишущих под псевдонимами. О литераторах, выступавших под псевдонимами «Гейне из Замоскворечья», «Философ из Рогожской», мы уже вспоминали, а были ещё «Трефовый король», «Фигаро из Сущёва». Этот Фигаро сочинил, например, стишки, каждый куплет которых заканчивался словами: «Но где правда и где ложь, ничего не разберёшь!» Вот один из куплетов:
Начинаю свой рассказ
Я в подобном роде:
Тьма свершается проказ
На Руси в народе.
Там зарежут, иль побьют,
Здесь ограбят смело;
Тут с утра до ночи пьют
До горячки белой,
Там от дедов до внучат
Громко спорят и кричат…
Но где правда и где ложь,
Ничего не разберёшь!
Писал свои юмористические стихи и поэт Марк Ярон, отец нашего знаменитого артиста оперетты Григория Марковича Ярона. Сын поэта Фофанова, кстати, в годы революции и Гражданской войны тоже сочинял довольно лихие стихи, но потом переквалифицировался в управдомы.
Встречались среди поэтов и такие, как Матвеев, который то стихотворение Полонского выдавал за своё, то переделывал «под себя» стихотворения Тургенева, пользуясь тем, что новая публика их давно забыла. Перечисляя поэтов прошлого, нельзя не вспомнить о Емельянове-Коханском, личности в своём роде выдающейся. Во всяком случае, в 1896 году на маскараде в Дворянском собрании он, как писали тогда газеты, «нарядился чучелой и ходил с обмазанными кровью лицом и руками и с рекламой на задней части тела своего отвратительного произведения „Обнажённые нервы“».
В следующем году на жёлтой бумаге в Париже вышла его декадентская книжка «Вскрытие». Начиналась она с перечисления опечаток и заканчивалась «послесловием» из четырёх слов: «Нельзя запрещать кузнечику трещать».
Думаю, что некоторые произведения этого поэта достойны внимания и современного читателя. Вот, например, стихотворение «Графинчик», написанное в 1895 году:
Графинчик, голубчик, красавчик ты мой!
Люблю тебя видеть с трёхпробной водой (водкой, значит. — Г. А)
В тебе моя сила, отрада, покой,
Графинчик, голубчик, красавчик ты мой!
Нас люди не могут с тобой разлучить
И где же им грешным нас двух победить.
Не бойся, не дамся в обиду с тобой,
Графинчик, голубчик, красавчик ты мой!
На свете всё ложно, нет правды людской,
И я бы давно бы покончил с собой,
Графинчик, голубчик, красавчик ты мой!
Пускай нас не любят, пускай нас бранят,
Пускай все знакомство со мной прекратят.
Лишь ты мой приятель и брат мой родной,
Графинчик, голубчик, красавчик ты мой!
Когда смерть захочет с тобой разлучить,
Тогда без сомненья не буду я пить.
Но всё же положат меня в гроб с тобой,
Графинчик, голубчик, красавчик ты мой!
Он создавал собственные вирши и на мотивы великих своих предшественников, в частности М. Ю. Лермонтова. Таково его стихотворение «Пьяница»:
Напившись, пьяница тоскует,
В трактире сидя за столом…
Скажите, что его волнует?
Что хочет он залить вином?!
Лакеи спят… Орган играет
«Пропил я всё, приятель мой».
Увы! Сидит он, — выпивает,
Забыв детей своих с женой.
Пред ним бутылки и селёдки,
А он, махая головой
Мятежной, просит водки,
Как будто в водке есть покой!
Или вот такое про жуликов того времени:
Люди-крокодилы
Спят во тьме ночной,
Лица их унылы,
Полны желчи злой,
Не боятся Бога,
И святых не чтут.
Погоди немного —
Все под суд пойдут, —
навеянное, вероятно, шумными уголовными процессами тех лет. Прошли годы, и Емельянов-Коханский перешёл на прозу, написав такие романы, как «Московская Нана», «Тверской бульвар», «Кровавые деньги», которые были переведены на иностранные языки, и выпустил сборник рассказов и повестей под названием «Записки грешника». В 1910-е годы он издавал сатирическо-эротический журнал «Шутёнок». В журнале попадались безобидные шутки, такие, как, например, эта:
«После паводка несколько крестьян с баграми в реке что-то ищут. К ним подходит старичок и спрашивает:
— Что это вы, ребята, делаете?
— Да вот, — отвечают крестьяне, — ехал к нам в деревню аблакат[90] да потонул.
— Эх вы, чудаки! — сказал на это старик. — Вы выньте рублёвую бумажку, он и всплывёт».
Нагромождение литературного хлама на фоне великих классиков начала века ещё задолго до этого дало повод И. С. Тургеневу заявить о грядущей «безымянной Руси». К счастью, он ошибся: во второй половине XIX и в XX веке Россия дала миру немало прекрасных имён. И всё же весь тот поток халтуры, подёнщины, дешёвки, который обрушился благодаря печатному станку на головы российских граждан, не мог не волновать «радетелей блага народного». «Современная литература, — восклицали они, — клоака нечистот, столпотворение вавилонское! Теперь, когда нельзя делить людей на интеллигентных и неинтеллигентных по костюму (горничные и лакеи одеваются лучше студентов), потребителями печатного слова стали кухарки, горничные, приказчики и пр.». И вот в угоду приказчикам, кухаркам и горничным в стране появилась так называемая «малая пресса». В то время когда настоящая литература задавалась целью удовлетворять умственные потребности интеллигентных людей, она старалась привлечь к чтению полуобразованную и совсем неинтеллигентную массу. «В связи с этим, — отмечали критики, — возникла целая популяция работников печатного слова, содержащая в себе заведомо бесчестных людей. Люди эти с пониженным умственным и нравственным уровнем приспосабливаются к низкому умственному уровню читателей. И если в прежние времена литература выражала мнение прогрессивной части общества, то теперь появилась литература, отражающая пещерные взгляды, которые прежде средний русский интеллигентный человек считал неприличным высказывать в обществе».