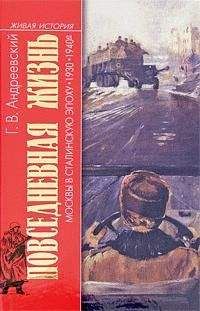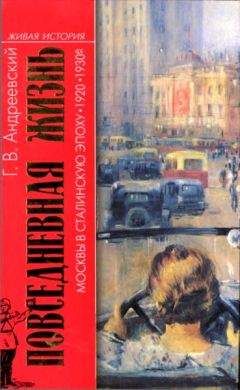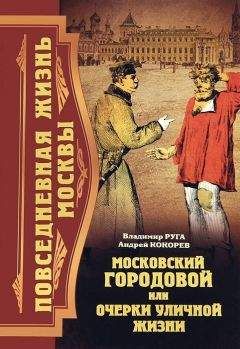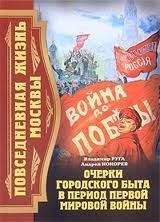Георгий Андреевский - Повседневная жизнь Москвы на рубеже XIX—XX веков
Среди либеральных ценностей, привнесённых с помощью Витте в российскую действительность, находилась и недавняя наша подруга «гласность». После Московского восстания 1905 года она тоже стала вызывать возмущение у наших патриотов. «Гласность, — писала газета „День“, — стала орудием обмана целых народов, как это ни казалось бы невозможным… Гласность считается каким-то благом. На самом деле она может быть благом, но, увы, чаще бывает величайшим злом. И особенно много зла вносит в нашу жизнь гласность в наше время, когда печатью — надо в этом сознаться — завладели в громадном большинстве иудеи… они больше всех кричат о свободе гласности и больше всех злоупотребляют этою свободой. Но и не одни иудеи, — наши интеллигенты либерального лагеря не уступают иудеям в злоупотреблении гласностью».
Оглядываясь из тьмы сегодняшнего времени на лучезарное прошлое нашей родины, невольно спрашиваешь себя: а может быть, правы были все эти заступники царя и веры? Сохранись всё в прежнем виде — и не было бы у нас ни ужасов Гражданской войны и коллективизации, ни ежовщины, ни разрушения памятников старины и прочих утрат. Так, возможно, всё бы и случилось, если бы в нашей стране всем жилось так же хорошо, как защитникам престола, если бы в ней относились к людям с уважением, учитывали их мнение, не ввязывались в войны, если бы была более гуманная и терпимая социальная и национальная политика. Но чего не было — того не было, и история, хочется нам этого или нет, абсолютно равнодушная к нашим желаниям, распорядилась иначе. Прошло несколько лет и не только от монархии, но и от либеральных реформ начала века остались одни воспоминания. Война и революция смели их, как пыль с комода. Но ещё задолго до катастрофы умные люди в России искали ответы на вопрос о причине революционных волнений в России. Тот же Витте видел их, прежде всего, в равнодушии к положению рабочих в стране, в национальном гнёте, в игнорировании интересов молодёжи. Наверное, Витте назвал не все причины и их было больше, однако не вызывает сомнения то, что гнёт над евреями, поляками, кавказцами и другими малыми народами империи действительно вербовал их представителей в ряды революционеров, как ряды антисемитов пополнялись русскими в ответ на проникновение евреев в экономику и захват ими выгодных в ней мест и позиций.
Жившая веками при крепостнических порядках крестьянская Россия не вырастила и не воспитала у себя ловких, предприимчивых дельцов. У евреев же таковых хватало. И если в соревновании за сохой они проигрывали, то в товарно-денежных операциях безусловно брали верх. В романе тех лет Александра Соколова «Старые и новые коммерсанты», повествующем о быте хлебных торговцев в России, по этому поводу сказано следующее: «Теперь торговля, мало-помалу, переходит в руки экспортёров-евреев, торговые фирмы мельчают, новых не нарождается и, конечно, не нужно быть пророком, чтобы предсказать скорый крах хлебной биржи не в смысле, конечно, пошабашивания торговли, а в смысле исхода израильтян, если не из Египта, то из Бердичева, которые и вытеснят русского купца с его насиженного места». Кто-то может на это резонно возразить: «Что ж тут плохого? Давайте соревноваться, конкурировать, и от нашей конкуренции дело только выиграет». Но кто-то на это резонно возразит: «А я не хочу ни с кем конкурировать в своей стране». Вот и пойми их, разбери, кто из них прав.
Наверное, во всех этих разговорах о засилье евреев в хлебной торговле было много преувеличений. К тому же немало жестоких и алчных предпринимателей вышло к тому времени и из коренного народа, о которых Писемский в романе «Мещане» сказал: «Торгаш, ремесленник, дрянь всякая, шваль — и, однако, они теперь герои дня!» Что поделаешь, не любят в России выскочек, особенно из своих, простых, ну а из пришлых, тем более.
Присваивание евреями названий русских фирм и торговых знаков тоже возмущало обывателей. Киевские евреи купили чайную фирму Поповых, — возмущались они в 1896 году, — и оставили их фамилию на этикетке, а торговец Вульф Янкелевич Буковский на этикетках пишет: «Василий Яковлевич». «На каком основании еврейское имя заменено христианским? — вопрошали они. — Уж не для того ли, чтобы вводить в заблуждение почтеннейшую публику, не желающую иметь дело с „иерусалимскими дворянами“?» Антисемитам национальная принадлежность владельцев чаеразвесочной фабрики, очевидно, отбивала всякое желание пить чай. Здесь следует указать на то, что сменить тогда фамилию было не просто. Для этого следовало подать прошение на высочайшее имя и получить от полиции положительное заключение о нравственных качествах и политической благонадёжности. Так появились в России евреи по фамилии Фёдоровы, Николаевы и пр.
Особо ожесточённая дискуссия по еврейскому вопросу разгорелась в 1899 году в связи с делом Лурье. Купца с этой фамилией выселили из Москвы, как еврея. Дело дошло до Сената, где большинство высказалось за запрещение евреям жить в Москве. Потом вопрос был передан в Совет министров. Великий князь Сергей Александрович, в отличие от Столыпина, стоял за выселение из Москвы всех евреев. Столыпин же предложил разделить евреев-купцов на три группы. К первой отнести тех, кто жил в Москве до 22 января 1899 года, ко второй — тех, кто жил с разрешения и после, и, наконец, в третью группу должны были войти те, кто не имел и не имеет разрешения на жительство от местной администрации. Столыпин считал, что поголовное выселение еврейских купцов из столиц плохо повлияет на производство и торговлю и вредно отзовётся «на общих интересах торгово-промышленного класса». Министры Тимирязев, Коковцев заявили, что в случае высылки еврейских купцов из Москвы западные банки откажут нам в предоставлении кредитов. Такие рассуждения приводили русских патриотов в бешенство. «Тысячелетнее государство 900 лет не спрашивало приказания, кому жить в его столицах, ни у евреев, ни у цыган, ни у армян, — возмущались они. — Пусть у русских евреев образовалось своё международное правительство, но для нас-то, ста миллионов русских, неужели оно сильнее нашей власти?» И всё же 22 января 1899 года царь разрешил евреям, купцам 1-й гильдии, жить в Москве, но не иначе как с особого разрешения министра финансов и московского генерал-губернатора.
Большое значение в формировании социального статуса русских евреев имели установленные в России порядки воинской повинности и места проживания. Законы, введённые ещё при Николае I, надолго определили особенности «еврейского племени» в России. Срок службы в армии был тогда 25 лет. Нечего и говорить, что энтузиастов служить такой срок, да ещё в армии, где процветали мордобой и жестокость по отношению к русским, а тем более к евреям, было немного. Согласно закону, в рекрутские наборы общества (у евреев — кагалы) предоставляли юношей в возрасте от 12 до 25 лет. Еврейских мальчишек (кантонистов, как их называли) из местечек Украины, Литвы и Польши, согласно закону, отправляли во внутренние губернии России, где размещали по крестьянским избам для воспитания в христианском духе до совершеннолетия и зачисления в солдаты. Облавы на еврейских детей стали тогда обычным делом. В дальнейшем от воинской службы стали освобождать раввинов, купцов, а также евреев, окончивших русские учебные заведения. Не удивительно, что евреев при таком положении тянуло в гимназии и университеты России. Однако поступить в них было не так легко. Процентная норма приёма евреев в высшие учебные заведения Москвы и Петербурга составляла всего 3 процента от общего числа принятых, в остальных городах за чертой оседлости — 5 процентов, а в черте оседлости — 10 процентов. Поступив в школу, еврейские дети не укрывались за её стенами от антисемитизма. М. Е. Салтыков-Щедрин в своих «Мелочах жизни» писал по этому поводу следующее: «Для евреев… школа — время тяжкого и жгучего испытания. С юношеских лет еврей воспитывает в себе сердечную боль, проходит все степени неправды, унижения и рабства. Что же может выработаться из него в будущем?»
Предпочитали евреи получать медицинское образование, поскольку лишь оно давало им возможность жить вне черты оседлости. Со временем медицинское образование в некоторых еврейских семьях стало традицией. В 1861 году имеющие диплом доктора медицины и хирургии, а также доктора и магистры или кандидаты по другим факультетам университета были допущены на военную и гражданскую службу. С 1879 года все евреи, имеющие высшее образование, а также фармацевты, дантисты, фельдшеры и акушерки могли жить вне черты оседлости. Купцам 1-й гильдии и служащим разрешалось проживание в Москве с 1859 года. Разрешение евреям в черте оседлости устраивать шинки открыло перед ними путь к обогащению. Когда же им этот промысел в сельской местности запретили, они стали нанимать русских и украинцев и оформлять шинок, а проще говоря пивную, на их имя.
Немало евреев, оказавшись в России, потянулось к литературе, музыке, театру и изобразительному искусству. Этому способствовали как природные склонности, так и то, что евреи с детства были приучены к зубрёжке в работе с текстами и рассуждениями на религиозные темы. Ограничение проживания евреев за чертой оседлости по религиозному принципу привело к тому, что евреи в массовом порядке стали принимать христианство — переходить в православие и лютеранство. Таких называли «выкресты».