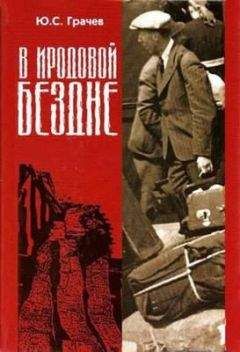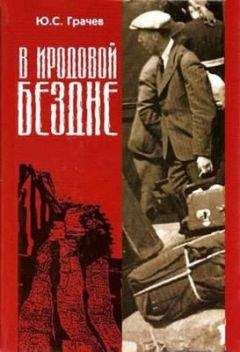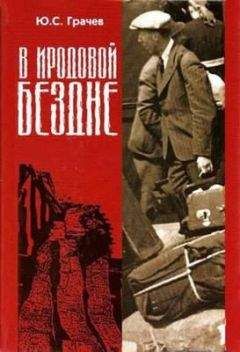Юрий Грачёв - В Иродовой Бездне. Книга 3
Наедине он признался Леве, что безумно любит Данилевскую, и приехал для того, чтобы только взглянуть на нее.
— Как вы относитесь к Вале? — спросил он Леву.
— Только как к хорошему товарищу по работе, и все, — ответил Лева.
— Тогда прошу вас, храните ее от всяких людей. Она достойный, хороший человек, но уже один раз, как бабочка, обожглась с одним инженером.
Колонна расширялась, прибывали новые этапы. Было много жуликов, были больные, были отказчики. Лева старался добросовестно лечить людей и освобождал от работы действительно больных. По утрам списки освобожденных по болезни часто вызывали бурную реакцию у начальника колонны, которому нужно было во что бы то ни стало вывести больше людей на трассу. При виде списка освобожденных он страшно расстраивался и, схватив его, бежал в амбулаторию.
— Ты что наосвобождал? Это все больные?
Начальник, пожилой человек, весь трясся от гнева и, потрясая палкой, на все объяснения Левы, словно бешеный, кричал:
— Фашист, фашист! Я тебе покажу, фашист, столько людей освобождать от работы!
Лева требовал комиссии и доказывал, что люди действительно были больные.
Из управления лагеря поступали все новые и новые директивы о поднятии производительности труда, о борьбе с отказчиками от работы, о большем выводе заключенных на работу за зону.
Начальник явно волновался. По утрам всех отказчиков с помощью надзирателей собирали к вахте и под особым конвоем отдельной бригадой выводили на производство. Но отказы от работы не уменьшались. Не привыкшие к работе воры явно не хотели трудиться. Наиболее старые главари просто сидели на верхних нарах и, когда приходило начальство с проверкой, нахально смотря в глаза начальнику, говорили:
— Иди сам работай, начальничек, а нас не трогай.
Начальник кричал надзирателям:
— Взять их!
Надзиратели начинали брать, но это было не так легко. Тогда помогал сам начальник. У него была палка-подожок. Он ловко крюком этого подожка поддевал за шею сидевшего на нарах урку и сбрасывал его на пол. Это падение со вторых нар не обходилось без ушибов. Урки нещадно ругались, ругалось начальство, и при сценах этого адского развода по своей должности фельдшера всегда присутствовал Лева.
Доходяги, урки и другие физически ослабевшие заключенные прятались во время развода под нары, разбирали полы и залезали в подпол, их трудно было найти. Тогда начальство решило применять собак, которые охраняли лагерь снаружи и сопровождали этапы в пути следования. В зону по утрам, когда кончался развод, приходил проводник с собакой. Это был молодой военный. Он ревностно старался выполнить порученное задание и шел с надзирателями разыскивать скрывавшихся. Собака находила их под нарами, под полом, и не только находила, но и кусала. Искусанные приходили в амбулаторию к Леве на перевязку. Лева с содроганием смотрел на эти раны, записывал каждый случай в амбулаторный журнал и составлял акты. Записывать и составлять акты ему никто не поручал, но вся его душа возмущалась против этого, и он только отмечал правду того, что происходило.
«Что будет дальше, как быть?» — думал он, перевязывая покусанных.
И вдруг грянул гром. Явилась большая следственная комиссия. Начальника колонны арестовали, проводника собаки тоже. Начались допросы, многих надзирателей не было уже видно. Вызвали Леву и предложили дать показания. Он беспристрастно рассказал обо всем, что было, и представил следственным органам акты на покусанных. Его привлекли к делу как свидетеля.
Не прошло и несколько дней, как к Леве прибежал начальник из УРЧ (учетно-распределительная часть) и сказал, что его, вероятно, отправят в этап.
— В чем дело? — спросил Лева.
— Не знаю, не знаю. Вообще-то сейчас всех лиц 58-й статьи начали собирать в отдельную колонну.
Неожиданно отправили Валю Данилевскую и некоторых других — тоже в этап. Через несколько дней вызвали на этап и Леву.
— С кем же я буду работать? — разводил руками врач Букацик.
— Вам пришлют новых медработников, — уверял его новый начальник колонны.
И вот Лева в этапе. На душе и беспокойство, и в то же время детская вера. Ведь Отец все знает, у Него свои пути, и Он сделает то, что мы хотя в данный момент и не разумеем, но уразумеем после.
Лева прибыл в центральное управление лагеря. Там ему сказали, что его сюда вызвали как свидетеля. Что здесь, в тюрьме, находятся арестованные начальник колонны, проводник собаки и другие, что скоро будет суд.
В ожидании суда Леву водили на общую работу, на трассу. Вечером же он был счастлив. Он встречал дорогих, близких братьев. В портновской мастерской он расцеловался с дорогим братом пресвитером Сызранской общины Семякиным. Его громогласные проповеди Лева помнил еще с детства, когда он проповедовал в молитвенном доме на Крестьянской улице в Самаре. Этот брат хотя и был небольшого роста, но обладал удивительным сильным голосом и во время проповеди придерживался стиха: «Взывай громко, не удерживайся! Он был рад видеть Леву, так как очень любил самарских верующих и хорошо знал его отца и мать.
— Ты уж меня, брат, извини, — говорил он, усаживаясь на большой портновский стол. — Я буду шить и говорить, задание очень большое. Я почему-то уверен, что когда апостол Павел шил свои палатки, он тоже и трудился и беседовал.
Они вспоминали минувшие дни. Брат Семякин рассказывал о своей юности, которую он отдал Христу, работая в юношеском кружке общины и развиваясь духовно.
— А теперь нам и пострадать пришлось за Христа. А то пели, пели:
«Лучшие дни нашей жизни, свежие силы весны молодой мы посвятим Иисусу в дар для Него дорогой…» Он задумался, а потом продолжал:
— Да, пели.
«Пусть нас постигнут гоненья, смерть за Христа не страшна…» Вот гонения постигли, а готовы ли мы теперь умереть за Христа? Вот я шью, а сам все часто размышляю: «Готов ли я умереть за Христа?» Готовлюсь.
— Я думаю, что Господь еще сохранит нас от смерти, — сказал Лева. — Хорошо быть дома, у Отца, но оставаться нужнее.
— Не знаю, брат, но тучи сгущаются, и как бы не пришлось мне, многим смертью прославить Бога.
Лева в лазарете встретил фельдшера Синявского.
— Идем, идем, поговорим, — беря Леву под руку и выводя из лазарета, сказал он.
Они сели на скамеечку за бараком. Никого поблизости не было. Смеркалось.
— Ну, расскажи мне о Вале, как она там была. Я уже слышал, ее отправили в другую колонну.
— Все было хорошо. От отца она письма получала аккуратно, а также от того инженера.
— И она отвечала ему?
— Да, отвечала. Она делилась со мной своими переживаниями. Но все же я хочу сказать, что все люди в лагерях грубеют.
— А что такое? — спросил Синявский.
— Да она — такое чудное, нежное создание, но тоже так, привыкла к умирающим и смерти. Когда мы ходили в морг вскрывать трупы, то в ожидании доктора она была в состоянии, стоя на гробах, улыбаться и танцевать.
— Времена черствые, времена особые, — сказал Синявский и вздохнул. — Вы не знаете, что происходит? — Он наклонился к уху Левы. — Сколько военных арестовано, и каких! Старые, ответственные большевики гибнут! Что творится! Вот недавно одна приезжала сюда на свидание. Она рассказала, что в Москве жены партийных арестованы: ходили к Крупской Надежде Константиновне, рассказывали ей обо всем, просили заступничества. А она чуть не плача говорит им, что ничего поделать не может. И это говорит жена Владимира Ильича Ленина! Что творится! Наше лагерное высшее начальство не знает само, что будет завтра. Недавно меня вызвали в управление ночью и говорят: «Забинтуйте ногу женщине». Я смотрю: ни раны, ни ушиба нет. Стал бинтовать, а они под бинт положили какой-то пакет с письмом, и я забинтовал его. Видимо, куда-то посылают, о чем-то кому-то хотят сообщить.
Лева встретил своего дорогого Жору.
— Как давно я тебя не видал, почему не приезжал? — воскликнул Лева.
— Меня сняли с агитбригады. Все, кто имеет 58-статью, сняты на общие работы. Вот посмотри на мои руки.
Лева взглянул. Руки Жоры, пальцы и ладони, которые были так нежны (он всю жизнь держал в руках только смычок скрипки и был виртуозом-скрипачом), — теперь эти пальцы были покрыты мозолями, трещинами и были явно неспособны держать смычок скрипки.
— Теперь ты не сможешь играть! — сказал Лева с болью в сердце, смотря на его руки.
— Да, для искусства я теперь погиб. Я уже не смогу играть, как раньше, пальцы стали какие-то словно не свои. Ведь я теперь долблю пласты угрюмых скал, делаю ручное бурение.
Лева знал, что это очень тяжелая работа. А Жора к физической работе был совсем не приспособлен.
— Но не грусти обо мне, Лева, — сказал Жора, увидев, как потемнело лицо друга. — Знаешь, Христос стал ближе, как никогда в жизни. Ведь я душой ежедневно мучился в агитбригаде, видя и слыша дела беззаконные. А теперь меня Бог от этого избавил. Плоть страдает, но это временное по сравнению с тем вечным, что откроется. Теперь я молюсь, как никогда не молился, и ощущаю особую близость Господа.