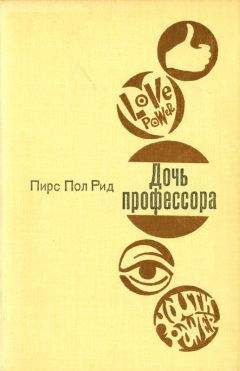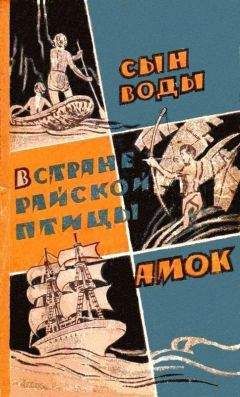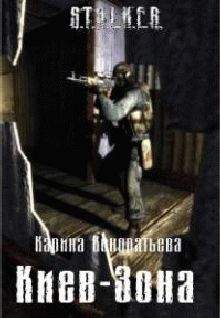Пирс Рид - Женатый мужчина
— Абсолютно. Прекрасная рубашка. — Он поднялся с дивана и поцеловал ее. — Одно только никуда не годится.
— Что? — Она насторожилась и замерла, как испуганный ребенок.
— У меня нет подарка для вас.
У нее вырвался вздох облегчения, и он уловил аромат духов и губной помады.
— Мужчины не делают подарков. Папа никогда никому не делает — только мне. И потом, у вас забот хватало с детьми и вообще. А у меня только родители и вы.
— А что они вам подарили?
— О, кучу всего. Мама — прелестное колье, золотое, с такими синими камешками. Как они называются?
— Сапфиры.
— Нет. Какой-то ляпис.
— Ляпис-лазурь?
— Правильно.
— А отец?
Она показала на маленькую пастель на стене у камина. Джон подошел посмотреть.
— Это что — Ренуар?
— Да. Думаю, его сын, Жан. — Она направилась к дверям спальни.
— Очень мило со стороны вашего отца.
— Да, — сказала она не слишком уверенно. — Только это скорее перемещение капитала, чем рождественский подарок, ну, чтобы не платить налога на наследство. — И вышла.
Джон постоял, рассматривая картину и размышляя, сколько она может стоить, потом снова сел на диван. Паула вернулась с махровой простыней.
— Вот, — сказала она. — Где ванная, помните? — Да.
— Я уже пустила воду, так что поторопитесь, не то польется через край. — Она подошла к винтовой лестнице. — А я займусь ужином.
Джон залпом допил виски и пошел в ванную. От воды поднимался пар и вместе с ним аромат какой-то эссенции.
Он закрыл дверь на защелку и принялся раздеваться. Тело жаждало окунуться в ванну; ногам не терпелось погрузиться в горячую душистую воду, однако то, что он стоял голый в ее ванной и она сама пустила ему воду, было актом настолько интимным, что его проняла дрожь от волнения, как будто путь в ее спальню ему наконец открылся.
Он медленно опустился в обжигающую воду, и нервы успокоились, дрожь унялась. Он вздохнул от наслаждения, расслабился и положил голову на край эмалированной ванны. Все вокруг было изысканным и дорогим — в зеленой мыльнице китайского фарфора с сидящей на краю лягушкой лежал большой овальный кусок такого же по цвету мыла. Капельки влаги на кафеле сверкали, точно драгоценные камни. И вода, в которой он нежился, чуть зеленоватая от эссенции, была прозрачная и чистая. Как давно не принимал он ванную без вечных волос и хлопьев серой пены на мутной воде!
Джон вымылся и полежал в ванне. Он внимательно оглядел свое тело, размышляя, каким оно покажется Пауле, если они все же станут любовниками. Он похудел с лета, регулярно делал зарядку, так что грудь была мускулистой, живот подтянулся. Вот только едва ли Паула воспламенится, глядя на его тощие и бледные ноги. Чтобы больше не думать о своем возрасте и ее юности, он вылез из воды и завернулся в белую купальную простыню, точно в римскую тогу. От приоткрыл дверь, чтобы выпустить пар из ванной, и услышал звуки музыки, доносившиеся из гостиной. Выйдя в коридорчик, он увидел на диване у камина Паулу.
— Поторапливайтесь, — сказала она. — Вам еще открывать шампанское.
Он двинулся в своей тоге.
— Я готов.
Она показала на бутылку шампанского на подносе:
— Отпразднуем вашу победу в суде.
— Ах, да, — сказал Джон. — Я и забыл.
— Надо было вам и там выступать в такой одежде. Прямо Цицерон.
Джон снял фольгу с пробки, открутил проволоку.
— Не уверен, что это пришлось бы судье по душе. — Пробка хлопнула, и он наполнил бокалы. — Итак, за… — Он помедлил.
— За что? — спросила она.
— За девушку, которая… прелестна душой и телом.
— Это вы обо мне?
— Именно.
— Тогда я пас — не могу же я пить за себя. Джон поднял бокал и пригубил шипучее вино.
— А я тогда… — Она рассмеялась. — Ну, за будущего премьер-министра!..
— Это вы обо мне?
— А почему бы и нет?
— Тогда берите выше, где же ваше честолюбие?
— Прекрасно. За первого президента Европы. — Она отпила из бокала.
— А вместе мы не можем выпить? — спросил Джон.
— Можем. За любовь и политику.
Они оба выпили до дна, и Джон пошел в ванную надеть синюю шелковую рубашку.
Оставив по-домашнему открытым ворот рубашки, он сидел напротив Паулы и убеждался, что она действительно отлично готовит: бараньи отбивные, картофель и салат были превосходны. Паштет, поданный перед барашком, был из «Харродза»[40], а бордо, за которое они принялись после шампанского, — из подвалов «Шато-Латур».
— Вы всегда так живете? — спросил ее Джон.
— Как — так?
Он обвел рукой стол.
— Не всегда, нет. Но я считаю, не следует отказывать себе в том, что можешь себе позволить.
— Я тоже так считаю. — Он взял полную ложку шоколадного мусса.
— Люди думают, если ты придерживаешься левых взглядов, значит, жаждешь довести жизненный уровень до самой низкой черты, а не поднять его до самой высокой.
— А это возможно?
— Почему бы и нет? Некогда автомобили считались предметом роскоши для супербогачей. Теперь они есть у каждого.
— И вкус pâté de foie gras[41] не изменится, если его будут запросто подавать на завтрак каждому рабочему?
Она пригубила вино.
— Не понимаю, почему он должен измениться.
— Если пиво было бы по цене вдвое дороже вина, вы пили бы, наверное, простое «светлое», а не «Шато-Латур».
— Терпеть не могу пива. Джон постучал себя по голове:
— Это вот здесь запрограммировано. К примеру, дамы прежде полагали, что загар непривлекателен. Барышни прятались под зонтики, чтобы защитить себя от солнца. Почему? Потому что смуглая кожа была у простолюдинов, работавших под солнцем. Она выдавала крестьянское происхождение. Только богатые были розово-белыми. А теперь в нашем урбанистическом обществе все наоборот: загар выдает принадлежность к праздному классу, к тем, кто зимой катается на лыжах в горах, а лето проводит на взморье, тогда как бледная кожа означает, что вы работаете в учреждении или на фабрике, а отпуск проводите в Блэкпуле или в Торки.
— Если так на это смотреть, — сказала Паула, — то наш социализм — химера.
— Почему?
— Потому что это означает: люди счастливы не тогда, когда все равны, а только когда у них чего-то больше, чем у других.
— Конечно, социализм — химера, если полагать, будто государственная собственность на все и вся положит конец человеческой неудовлетворенности. Однако преувеличенные надежды некоторых социалистов не должны дискредитировать разумные реформы. — Он произнес это медленно, сопровождая свою речь жестами, как будто выступал перед присяжными или на митинге. — Если не удастся создать рай земной в Рочдейле или Брэдфорде, это еще вовсе не означает, что не надо пытаться улучшать культурные и материальные условия жизни бедняков. Оглянитесь, наконец, и сравните сегодняшнюю жизнь большинства из нас с тем, что было сто или двести лет назад. Нет рабства, нет детского труда, приемлемые условия работы, бесплатное здравоохранение. Никто не должен преуменьшать этих достижений…
Паула зевнула.
— Я вам не говорил, — сказал Джон, — что нынешний член парламента от Хакни хочет снова баллотироваться?
Паула нахмурилась:
— Нет, не говорили. А что, возникает проблема?
— Просто это затруднит дело.
— В таком случае надо ему помешать.
— Мы собираемся в четверг обсудить, что можно сделать.
Она поднялась поставить воду для кофе.
— Я, кажется, сумею помочь, — сказала она с другого конца кухни.
— Как?
Она ответила не сразу, делая вид, будто никак не может закрыть кран.
— У меня есть кое-какие связи, — сказала она.
— В лейбористской партии?
Она повернулась и как-то странно посмотрела на него.
— Нет, не в лейбористской партии, а среди самых что ни на есть пролетариев.
— Случайно не друзья Терри Пайка?
— Скорее знакомые. — Она поставила чайник на огонь. — Но это, как он выражается, «фигуры». Они пользуются немалым влиянием.
— Я предпочел бы обойтись без их помощи.
— Почему?
— Потому что такие люди действуют по принципу «услуга за услугу».
— Только не тогда, когда им платят. А потом, они вам и так обязаны. Терри по крайней мере.
— Я бы предпочел сказать, что мы сочлись. Паула вернулась к столу с тенью досады на лице, словно только что обнаружила, что барашек пережарен.
— Хорошо, — сказала она, — я ведь только предложила. Но знаете, вы недалеко уйдете в политике, если будете так привередничать.
— Что значит — привередничать?
— Будете чересчур джентльменом. Вести игру по правилам.
— По крайней мере не кончу за решеткой.
— Ни Черчилль, ни Ллойд Джордж не кончили, а когда надо было, щепетильностью не отличались. Наша с вами беда в том, что видеть грубую правду жизни нам не позволяет воспитание. А вера в честную игру — это непозволительная роскошь, вроде яхты или «роллс-ройса».