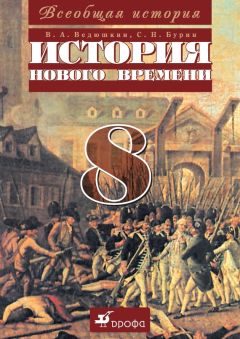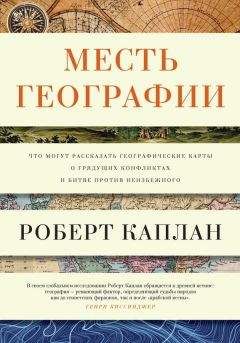Роберт Каплан - Политика воина
Разве не столько же войн было развязано по коммерческим мотивам с тех пор, как это стало господствующей системой наций, как раньше, когда мотивами служили алчность к территории или власти? Разве не дух коммерции во многих случаях порождает новые стимулы желать того и другого? За ответом на эти вопросы обратимся к опыту – наименее подверженному ошибкам советчику человеческим убеждениям [27].
Соответственно, реалисты убеждены, что если в теории развитию прав человека способствуют демократия и экономическая интеграция, то на практике они развиваются путем разрешения силовых взаимоотношений способами, которые ведут к более предсказуемому наказанию несправедливости. Разумеется, это часто подразумевает демократизацию и свободу торговли, но не всегда. В человеческих отношениях вопросы морали часто связаны с вопросами силы.
Возьмем Сербию 1990-х гг. Ее жестокость по отношению к гражданскому населению Боснии и Косова в некоторых аспектах сопоставима с поведением России в Чечне, Армении – в Нагорном Карабахе, Индонезии – на Восточном Тиморе, индийской армии – в Кашмире, Революционного объединенного фронта – в Сьерра-Леоне, Абхазии – в Грузии, повстанческих групп – в Конго и т. д. Но Россия, Армения и Индия в момент совершения этих действий были и оставались демократическими режимами. И хотя аргументы за вмешательство Запада в Боснии и Косове были по преимуществу нравственными, эти нравственные аргументы опирались на силу. В отличие от Конго, Кашмира или других частей Азии и Африки бывшая Югославия имела важное стратегическое значение для европейской безопасности и судьбы НАТО. Бывшая Югославия была также значительно восприимчивее к военному давлению, чем другие проблемные точки. Когда появились сообщения о жестокости российских войск по отношению к гражданскому населению Чечни, те же самые чиновники из администрации Клинтона, которые так интенсивно выдвигали нравственные аргументы за вторжение в Косово, внезапно онемели. В отличие от Сербии, которую можно было бомбить безнаказанно, Россия – могучая держава с ядерным арсеналом.
В Пакистане я своими глазами видел, как изменение внутреннего баланса сил способствовало улучшению ситуации с правами человека, притом что в октябре 1999 г. на смену демократическому режиму в стране пришел военный. Карачи, город с 14-миллионным населением, переживший тысячи смертей в ходе межобщинных столкновений, стал намного более мирным, потому что военные смогли сыграть роль Левиафана более успешно, чем демократически избранные гражданские лица. Военное правительство также смогло выступить против таких чудовищных племенных традиций, как «закон о богохульстве» и «убийство во имя чести», гораздо убедительнее, чем предыдущие демократические премьер-министры, опасавшиеся радикальных мусульманских священнослужителей. Военные, по крайней мере в начальный период, не запугивали журналистов до такой степени, как это делали предыдущие гражданские премьер-министры. И все это способствовало укреплению местной демократии, потому что военные имели гораздо большее влияние на племенных вождей, чем гражданские политики.
В итоге пакистанским военным не удалось заложить фундамент гражданского общества, но у них была для этого лучшая позиция, потому что возглавивший переворот генерал Первез Мушарраф обладал и большей властью, и бульшими «добродетелями», нежели его гражданские предшественники. Поклонник прогрессивного основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, генерал Мушарраф оказался по всем статьям самым либеральным пакистанским лидером за многие десятилетия, хотя и не был избранным.
Тем не менее, если международные отношения в конечном итоге – вопрос силы, такое представление опасно, если не используется для продвижения того, что Шлезингер называл соблюдением «чести и приличий», идеи, которая в конечном счете ведет к синтезу языческих и иудеохристианских добродетелей. Как пишет Жак Барзен, «сегодня ссылаться на «наше иудеохристианское наследие» выглядит дурным тоном». К этой фразе надо добавить «языческое» или «греко-римское» [28].
Хотя в этих эссе я неоднократно подчеркивал различие между языческими и иудеохристианскими ценностями, существует и значительное сходство, и не только из-за нравственной философии Цицерона и Плутарха. Некоторые версии христианства вполне совместимы с реализмом внешней политики. Кардинал Ришелье и канцлер Бисмарк ассоциируются, соответственно, с католическим и лютеранским пиетизмом, который сочетает индивидуальную набожность со здоровой подозрительностью по отношению к теологии и рационализму [29]. Оба были истинными христианами, которые полагали, что иррациональные страсти человечества достаточно греховны и для восстановления порядка требуются методы Гоббса. Блаженный Августин в своем «Граде Божьем» демонстрирует, как объясняет Гарри Уиллс, реалистический подход к обществу, отсутствующий в традиционных либеральных представлениях о мире. Если «либерализм не способен ни на что, кроме как проклинать в отчаянном непонимании» такие «иррациональные» племенные или этнические узы, то Августин считает, что, пока такие узы не мешают любви к Богу и идеальной справедливости, они могут служить сплочению общества, что тоже хорошо [30]. И разумеется, в XX в. был еще и Рейнольд Нибур, протестантский теолог и боец холодной войны, который поддерживал доктрину «христианского реализма».
Похоже, все они пытались нащупать способ использовать языческую общественную нравственность для продвижения – хотя и косвенным образом – частной иудеохристианской нравственности. Говоря нашим языком, соблюдению прав человека в наивысшем и наиболее верном смысле способствует сохранение и приращение силы Америки.
«Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью». Примерно в то же время, когда Томас Джефферсон писал эти слова для Декларации независимости, профессор логики и метафизики Кенигсбергского университета в Восточной Пруссии Иммануил Кант начал работать над серией книг, в которых доказывалось, что такие права действительно «неотчуждаемые» и являются такой же необходимой потребностью человечества, как вода и пища.
Кант родился в 1724 г. в Кенигсберге и умер там же в 1804 г. Семья была бедной и глубоко религиозной. Учился он в приходской школе, где проникся отвращением к официальной религии. В шестнадцать лет он поступил в Кенигсбергский университет, где и провел практически всю свою жизнь – в качестве студента, аспиранта в области естественных наук, преподавателя и, наконец, профессора, которым стал в возрасте сорока шести лет, когда и начались его серьезные занятия наукой. Он никогда не был женат, нигде не путешествовал. Для Канта внешний опыт имел очень небольшое значение по сравнению с жизнью ума, и его труды являются отражением его приоритетов.
Кант не вписывается в традицию Фукидида, Ливия, Макиавелли, Гоббса и др., для которых история была исходным материалом для философии. Подобно Платону, Кант ищет идеальное общество, основанное скорее на разуме, нежели на опыте. Кант не может помочь нам разобраться с миром, какой он есть. Но он способен помочь лучше осознать ценности, за которые мы боремся.
В каждом параграфе, написанном Кантом, заключено так много, что они по интенсивности напоминают поэзию. Самая знаменитая его работа – «Критика чистого разума», но для наших целей более подходит другая, естественным образом вытекающая из «Критики…», – «Основы метафизики нравственности» [31].
Если реалисты восхищаются Гоббсом за его анализ человечества как оно есть, то Кантом восхищаются за то, что он показывает, насколько лучше человечество может быть. Действительно, его трактат «К вечному миру» предполагает тонкий исторический механизм для обеспечения нравственного прогресса [32]. Но два философа не находятся в оппозиции. Кант тоже может быть проницательным наблюдателем мотивов человеческого поведения. По его словам, даже когда кажется, что в основе наших действий лежит нравственность, «нельзя с уверенностью заключить, что под простым прикрытием» нравственности «нет никаких тайных эгоистических импульсов», являющихся реальной причиной наших действий, поскольку «мы любим льстить себе, ложно приписывая себе благородные мотивы» [33]. Даже «самый пристальный самоанализ» не позволяет полностью узнать, что лежит в основе мотивации наших действий и действий других людей, поэтому доказательство нравственности действий можно вывести только разумом и никогда – на основании простого опыта [34]. Кант понимает, что в основе множества так называемых нравственных аргументов лежат эгоистические расчеты, и на этом основании критикует «политический морализм» – обвинение противника в аморальности просто из-за политических разногласий [35].