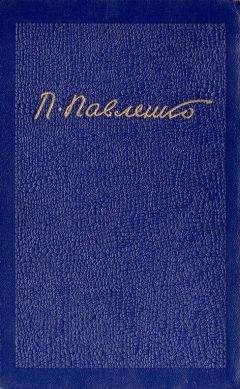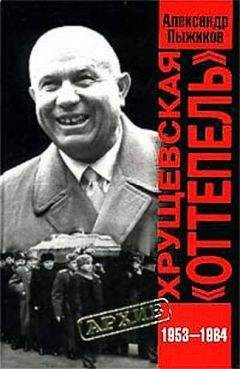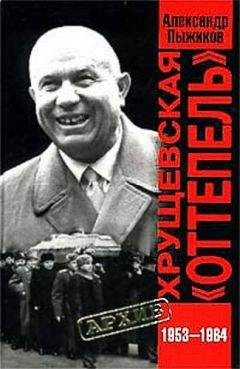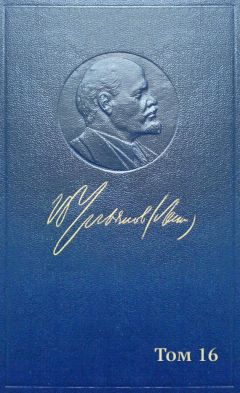Лев Вершинин - Россия против Запада. 1000-летняя война
Просвещенный абсолют
Судя по всему, юный Якоб, родившийся 28 октября 1610 года, был человеком из разряда «штучных». Одаренный во всех отношениях, с правилами и моралью, получивший прекрасное образование в Кенигсберге и Берлине, с опальным отцом он был почти не знаком, делал жизнь с дяди и под диктовку матери, с раннего детства объяснившей ему, что при всех талантах без «сухого закона» в жизни не преуспеть. А что из парня будет толк, все признали, когда он, вернувшись из «перегринации», первым делом начал обустраивать морские порты, восстанавливая разрушенные войнами терминалы и строя (на собственные, от своих имений, деньги) судостроительные верфи. При этом нос не задирал, с предводителями дворянства общался уважительно, предлагал сотрудничество и долю в задуманных проектах – так что в 1638-м, когда старенький дядя Фриц решил сделать племянника соправителем, «общество» а», скинувшись на бакшиш варшавским магнатам, дабы те не позволили королю Владиславу IV, желавшему назначить герцогом Курляндии своего брата Яна Казимира, реализовать такую несправедливость. И те без особых проблем помешали.
Короче говоря, когда в августе 1642 года престарелый дядя, пережив младшего брата, наконец скончался, и Якоб, получив утверждение Варшавы, стал полноправным герцогом, подданные имели все основания ждать золотого века. И таки да. Прогресс, и без того очевидный, рванул в галоп. Якоб знал, чего хочет, и Якоб знал, как добиться своего. В первую очередь «призвали учителя»: по всему герцогству открывались школы, в Митаве даже женские, а также государственные (бесплатные) больницы. Дальше – больше, всего и не перечислишь: уже несколько лет достаточно захолустная, нищая, разрушенная недавней шведско-польской войной Курляндия стала, скажем так, «прибалтийским тигром». Один за другим росли заводы, производя товары обеих групп, «А» и «Б», со стапелей одно за другим сходили на воду самые современные суда, как торговые, так и военные. На пике бума, в 1658-м, торговый флот Якоба состоял из 60 крупных судов, а ВМФ – из 44 «линкоров», – и заказы на постройку кораблей поступали аж из Франции, а на фрахт – из самой Венеции. Правда, очень мешало воровство, однако и эту проблему молодой герцог решил успешно, перестав приглашать менеджеров из забугорья, а доверив руководство собственным подданным (разумеется, немецкого происхождения, но про туземцев никто не вспоминал по умолчанию).
Все? He-а. Помимо прочего – в соответствии с духом времени – Якоб, как большой, инициировал поиск колоний. Сперва, правда, попросился в партнеры к британской Ост-Индской компании, но затем, сообразив, что с жуликами толку не будет, начал играть в реальную конкисту. И очень даже не без успеха: в Африке у местного царька был куплен островок и участок земли на материке, близ реки Гамбии, построены форт и поселок, началась торговля – всем, чем душа пожелает, кроме (особый приказ Якоба) невольников. Такая щепетильность, кстати, крайне бесила капитанов работорговых флотилий, шаставших у берегов Черного континента на предмет скупки, но чиновников, рисковавших за взятки нарушать запрет, согласно инструкциям из Митавы, увольняли с конфискацией и без пособия. Ну и примерно то же происходило в Вест-Индии, где на купленном у англичан островке Тобаго выросли укрепленные поселки, именуемые исконно по-латышски – Якобсфорт, Казимирсгафен и Фридрихсгафен, – и обо всем этом, кстати, нынешние латвийские историки обожают поминать, как о свидетельствах славного прошлого их маленькой, очень суверенной нации.
Помни о Поликрате
В общем, как писал современник, проезжавший через Курляндию примерно в 1655-м, когда Якоб праздновал пятнадцатилетие пребывания у руля: «Нет слов, чтобы описать блаженство и богатство этих благословенных краев. Достаточно сказать, что в тавернах почтенные бюргеры, мастера, торговцы и знатные господа, владеющие землями, совместно с матросами, портовыми поденщиками и прочим простым людом, дружно поднимают кружки с добрым пивом за здравие любимого герцога». И было отчего. Любимый герцог ежедневно и ежечасно оправдывал доверие подданных. Справедливо именуя себя «первым работником Курляндии», он пахал как вол: лично курировал основные объекты, не позволяя себе даже послушать музыку, до которой был крайне охоч, вел активную дипломатическую работу, простив долги императору Священной Римской империи, получил наследственный титул германского имперского князя, тем самым введя род Кетлеров в сливки европейских элит. И сверх того, крепя авторитет в «верхах», умел, не притворяясь, добиваться признания «низов». Во всяком случае после 28 февраля 1648 года – когда герцог едва не погиб, спасая из проруби нескольких либавских детишек, – его популярность в массах достигла максимума, вообще возможного для человека, который еще жив.
Неудивительно, что в какой-то момент имя Якоба Кетлера стало своего рода критерием успеха. Якобу завидовали. Якобом восхищались. На Якоба старались равняться мелкие германские князьки, а князья покрупнее вступали с ним в уважительную переписку, прося совета и консультации по самым разным вопросам. И только сам Якоб – это видно по сохранившимся письмам периода расцвета – смотрел на ситуацию трезво. Не знаю, слышал ли он что-то о Поликрате и его перстне (скорее, как культурный человек, слышал), но даже если и нет, оснований для тревоги хватало. Дальновидный аналитик, он наблюдал, как страшно разорила Европу беспощадная Тридцатилетняя война, по счастливому случаю, не затронувшая Прибалтику, предвидел неизбежность очередной, окончательной схватки Швеции с Польшей – и боялся. Прекрасно понимая, что его крохотное «княжество в табакерке» может быть уничтожено в любой момент, и поделать с этим ничего нельзя. Разве что попытаться объявить нейтралитет и добиться от потенциальных участников будущей войны гарантий уважения этого нейтралитета.
Вот ради этого зыбкого, почти невероятного шанса, проявив чудеса дипломатического искусства и не жалея денег, герцог добился созыва специального конгресса в Любеке. А там, пару лет поговорив, представители заинтересованных сторон, включая Польшу, при участии Франции, главной победительницы в прошедшей войне и практически гегемона Европы, дали-таки гарантии, что Курляндия, ежели что, вправе остаться в стороне от конфликта, при том единственном условии, что дом Кетлеров станет снабжать всех, кто потребует, продовольствием. И это, конечно, было огромной дипломатической победой, но в реальной жизни, где правила диктует сила, победа была хуже поражения. Просто потому, что когда война все-таки началась, в первые же ее дни генерал Роберт Дуглас, командующий шведскими войсками в Прибалтике, без всяких разговоров ввел в Курляндию войска, в ночь с 28 на 29 сентября 1658 года овладел Митавой и, после категорического отказа герцога присягнуть Стокгольму, объявил Якоба и его семью «пленниками Трех Корон» – и плен, сперва в Риге, а потом в Ивангороде, оказался далеко не формальностью: Кетлеров, вымогая присягу, держали в настолько тяжелых условиях, насколько это допускали приличия времени, порой угрожая и казнью. Тем не менее Якоб твердо отказывался признать верховную власть Швеции, заявляя, что лучше умрет на плахе, и в конце концов стойкость оправдала себя: война, окончившись ничем, оказалась все же выгоднее для Польши, и по Оливскому миру герцога в июле 1660 года освободили, взяв на прощание клятву, что «мстить шведам не будет, а будет верным другом».
Глава VIII. Доктрина ограниченного суверенитета (2)
Горький привкус полыни
По свидетельству очевидцев, в герцогстве Якоба встречали на коленях, как Спасителя. В него верили исступленно, и только сам он, видимо, понимал, что вернуть старые добрые времена нельзя: все, созданное годами упорных трудов, было разрушено. Заводы обратились в прах, лучшие кадры погибли или, если повезло, разбежались. Флот погиб, а что осталось – угнали, торговля ушла в глубокий минус. Колонии и на Гамбии, и на Тобаго – явочным порядком присвоили то ли голландцы, то ли англичане, а отдавать, естественно, не собирались, и никакие арбитражи тут никакой роли уже не играли. В общем, герцог вернулся на пепелище в полном смысле слова: первое время, пока не нашелся сколько-то подлежащий экспресс-ремонту особняк, пришлось даже жить на съемной квартире. Все это не могло не сказаться на уже совсем немолодом человеке: буквально за два-три месяца герцог, стойко перенесший тяготы плена, полностью поседел, ссутулился, стал хуже видеть и, как говорят, «постарел на десять лет».
Тем не менее, что бы ни было на душе, в работу он впрягся мгновенно, стараясь подавать пример уцелевшим подданным, и хотя, конечно, строить не ломать, кое-что получалось. Тем паче что дворянство, потерявшее в годы войны практически все, особо права не качало, доверив герцогу, таланты которого были общеизвестны, практически диктаторские полномочия, которыми тот и воспользовался, взяв под контроль города. С этих пор местное начальство вновь, как при Готгарде, утверждалось в должностях герцогом, и герцогские же чиновники курировали налоговую сферу, включая мельничные сборы. И телега стронулась. Понемногу вновь вступали в строй заводы и фабрики, ожил, хотя, конечно, не в старых объемах, торговый флот, а в 1664-м, в результате долгих и сложных переговоров с Лондоном, Митаве удалось добиться пусть и не возвращения краденых колоний, но, по крайней мере, неких «преимущественных прав» в торговле с Гамбией и Тобаго.