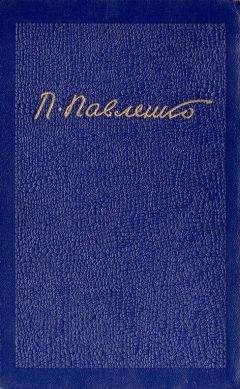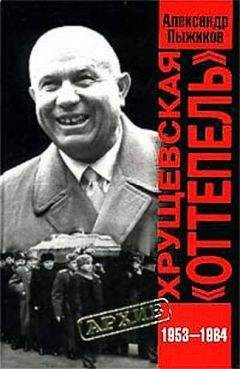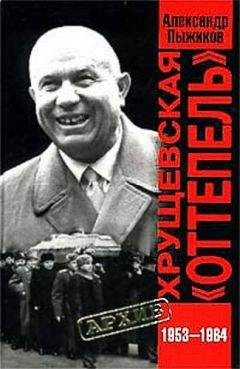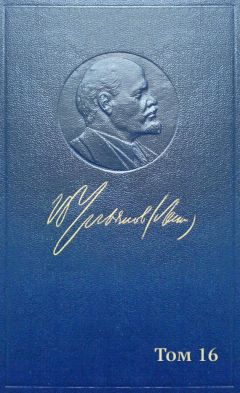Лев Вершинин - Россия против Запада. 1000-летняя война
И только ливы, о которых разговор, сразу же, без намека на попытку мяукать, повели себя иначе. Не совсем все, о чем позже, но как система. Простой люд, разумеется, никто не спрашивал, и при возможности он пытался сохранить достоинство, но вот элиты мгновенно, чуть ли не заметив паруса на горизонте, вприпрыжку помчались на поклон. Практически в полном составе.
Самым же сметливым и дальновидным оказался Каупо, распластавшийся ковриком под немецкий сапог мгновенно, самозабвенно и так безусловно, что аж сами целинники вздрогнули, на некое время заподозрив неладное.
Креститься? Без вопросов – и неважно, что как молился камням, так до конца жизни им и молился, главное, что построил в городище церковь, кормил патера и прилежно ходил на службы.
Признать себя вассалом епископа? С радостью – и взамен признан quasi rexґ et senior’om Lyvonum de Thoreida, то есть «почти королем», а позже удостоился даже вывоза напоказ в Рим, где сам Папа, полюбовавшись забавным туземцем, допустил его до туфли и подарил шейную цепь, знаменующую «вечную покорность помянутых ливов Святому Престолу ».
Поделиться землей? Сколько угодно – и хрен с ним, что земля общинная, главное – подпись, потом немцы сами свое возьмут, а под сурдинку и выдадут справку, что все остальное уже не принадлежит «всем ливам», как раньше, а законная собственность «почти короля».
Земли без людишек не надо? Никаких проблем – и дружинники Каупо вылавливали собственных собратьев, сбежавших из-под немецкого сапога, под конвоем возвращая бывших вольных людей в новое, уже потомственно крепостное состояние.
Еще чем помочь? Ja, ja, natuerlich – и те же дружинники исправно, везде и всюду с примерной охотой, в первых рядах (в одном из сражений пал даже старший сын Каупо) ходили в походы против всех, кто не понимал всей прелести немецкого сапога: и пруссов, и литвы, и жмуди, и куршей, и земгалов, и родичей-эстов, и даже против ливов, посмевших проявлять непокорность.
Скажем, некий Ако – очень рано, уже в 1200-м, – по самым первым признакам уловил, что пришли совсем не друзья, а претенденты в хозяева, призвал к сопротивлению ливские племена и вполне мог сбросить немногочисленных еще немцев в море. И сбросил бы. Но Каупо, давший слово участвовать в войне, «как подобает ливу», поступил совсем наоборот, не дожидаясь даже ответа на донос, посланный в Ригу, – и ливские отряды были разбиты порознь, на подходе к месту сбора, их вожаки развешены на стенах рижского замка, их села выжжены дотла, а голову «лихого зачинщика и возбудителя всего зла» победоносный Каупо, измазав дерьмом, отослал епископу. Взамен получив «милостивую похвалу и позволение взять себе земли, населенные дикарями, а их население сделать рабами, но прежде того истребить до последнего дитяти, хотя бы еще не отнятого от груди, всю родню лиходея Ако, чтобы впредь на этой земле не осталось никого, кто посмел бы не поклониться немцу».
Такое ценится. Когда Каупо в конце концов таки нарвался: на реке Юмере злые эсты проткнули его копьями – славные bundesritten неложно по своему верному слуге скорбели. Правда, посмертно отняли все владения: мол, «сей лив Якоб, как истинный праведник, завещал все бренное имущество церкви» – но потом, устыдившись, в знак благодарности пару поместий наследникам вернули, даже даровав сиротам полноценное немецкое дворянство, со временем ставшее родом графов Ливенов.
Короче говоря, мужик, почуяв благой запах немецкого сапога, буром попер к успеху и таки пришел, хоть и в потомстве, а вслед за ним гурьбой кинулся и весь туземный политикум. Народишко-то еще как-то брыкался, то земгалам помогал отбиваться, то литовцам, но элита лизала взахлеб. И таки выбилась в люди: за два поколения народ в основном «ушел в немцы» – кто в мелкие дворяне, кто в мещане, – а оставшиеся стали обычными крепостными неудачниками, которых, как лузеров, отдаленная родня предпочитала не помнить.
Одна беда: на много столетий вперед создалась репутация. И все, без малейшего исключения, – выжившие народы-соседи в песнях и сказаниях, и (много позже) созданная немцами и русскими «национальная интеллигенция стран Балтии» в публицистике и научных трудах – все поминали имя Каупо с омерзением, как синоним подлеца и предателя, продавшего за коврижки все, что только можно было продать.
И лишь в последние лет двадцать все изменилось: теперь ливу Каупо ставят красивые памятники, как «отцу независимой Латвии», а официальная история именует его «дальновидным руководителем, правильным выбором политического вектора предопределившим процветание латышской нации в составе Единой Европы».
И нечего тут комментировать. Осталось добавить только, что позже, уже по итогам Северной войны, Эстляндию с Лифляндией, а заодно и Ригой с прилетающими областями Россия вовсе не отняла силой. То есть и силой тоже, но, хотя и выиграв неимоверно тяжкую схватку, предпочла не отбирать по праву победы, а честно купить. Вместе со всем движимым и недвижимым имуществом, флорой и фауной. Повторяю: и фауной. Оптом. Без уточнений. Заплатив законным хозяевам-шведам три миллиона ефимков, сумму совершенно невероятную, а по ценам нынешнего дня, так и вовсе запредельную.
Около нуля
И вот, зная уже и про эстов, и про ливов, пришла пора уделить внимание и прочей живой жизни, традиционной для того хмуроватого, но милого ареала. То есть латышам и литовцам, которые ведь тоже, согласитесь, не твари дрожащие, но Homo Sapiens. Иными словами, люди – и, стало быть, на доброе слово право имеют. Тут, однако, возникают объективные сложности.
Скажем, литовцы – потомки жемайтов и аукштайтов, – более чем красиво стартовав (история Великого Княжества ярка, мрачна и самобытна не менее истории, скажем, Шотландии) и даже, включив в себя значительную часть западно-русских земель, став, скажем так, «альтернативной Русью», на финише потеряли самостоятельность, формально войдя в состав федеративной Речи Посполитой, фактически же став частью Польши, – и, соответственно, о какой-то отдельной их инкорпорации в состав России говорить не приходится. Были в составе, в составе и вошли. Но все же были.
А вот латышей попросту не было. То есть имелись, конечно, племена, от которых нынешние автохтоны Трехзвездочной Республики ведут свою уважаемую родословную, – куры, земгалы и латгалы («земиголь» и «летьгола» русских летописей) – и как-то жили себе, но на том и все. В интересующем нас контексте говорить попросту не о чем, поскольку все эти достойные народы, слегка – совсем чуть-чуть, но все же упорнее ливов – побрыкавшись в самом начале, легли под немцев и, расслабившись, принялись получать удовольствие. Довольно сомнительное, поскольку в итоге немцы, литовцев опасавшиеся, эстов как-то все же уважавшие, а ливов признавшие «достойными онемечивания», предков латышей, исходя из их покорности, вообще за людей не считали.
Так что, если уж о Латвии, сразу определимся: речь пойдет не о населявшем ее «коренном» народе, но исключительно о тамошних территориях, традиционно принадлежавших кому угодно, кроме автохтонного населения, – а следовательно, все, о чем пойдет разговор, так или иначе связано с Западной Европой. Латгалия, по итогам бурного XVI столетия, ушла под Великое княжество Литовское, и ее история стала его историей, а Курляндия и Земгалия – прочие осколки ордена – в понимании современников остались всего лишь осколком Большой Германии, населенной немцами – только немцами и никем, – кроме немцев, по злой воле судьбы ушедшими под крышу Варшавы.
Реконструктор
Итак, напоминаю: Готгард Кетлер, последний Великий магистр некогда могущественного ордена, по ходу Ливонской войны правильно уловив тенденции, сжег все, чему ранее поклонялся, послал на хрен, объявил себя, во-первых, лютеранином, а, во-вторых, наследственным герцогом – и тотчас присягнул на верность польскому королю. Взамен получив два малых ошметка былой роскоши, Курляндию и Земгалию – узкую полосу земли со столицей в крохотной Митаве, несколькими городишками, маленьким выходом к морю и совершенно открытыми границами. Ригу, на которую его светлость попытался разевать варежку, поляки новому вассалу, естественно, не отдали, зато помогли устоять в борьбе с неким Иоганном фон Рекке, тоже очень хотевшим стать герцогом, и на том большое спасибо. Ибо могли вообще отнять все, но не отняли же.
Вся дальнейшая жизнь герцога Готгарда – отдадим должное, работяги, не лишенного чувства ответственности, – была подчинена двум задачам: укрепить свою власть, передав ее не Варшаве, а по наследству, и хоть как-то привести в порядок доставшуюся ему полупустыню. А это было совсем не просто. Восстанавливать бывшую «блаженную страну» приходилось буквально с нуля. Бывшие братья-рыцари, став просто рыцарями, рвали одеяла на себя, мечтая о правах польской шляхты, в связи с чем – а куда денешься? – герцогу приходилось играть с городами как с партнерами, а этому следовало учиться на ходу. И герцог, понимая, что абсолютизм не пройдет, учился, создавая систему сдержек и противовесов. Города, ранее как бы вольные, а по факту – зависимые от владельцев окрестных земель, «ушли» под его личные контроль и опеку, став достаточно надежной опорой. А недовольное этим фактом дворянство взамен получило давно желанный «полномочный ландтаг» по варшавскому образцу, обретя право не только давать герцогу советы, но и оспаривать его решения. После чего наконец был подписан Privilegium Gothardinum, четко определивший не только права дворянства, но и обязанности, которые оно должно исполнять, если желает пользоваться правами.