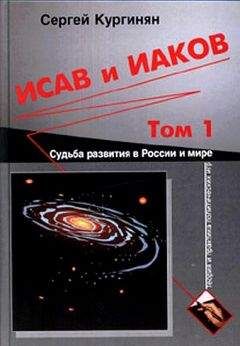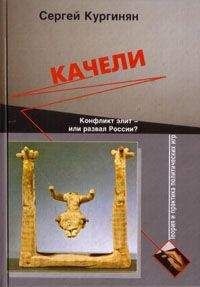Сергей Кургинян - Исав и Иаков: Судьба развития в России и мире. Том 2
Стоп! Если исторический процесс лишь наращивает отчуждение (например, через увеличение разделения труда), то он воплощенное зло? Есть и такое (убежден, что абсолютно бесплодное) прочтение Маркса. Впрочем, есть и другие — гораздо более «раскрученные» — попытки обвинить Маркса в идиотско-прогрессистском историческом оптимизме. Мол, верил старик в то, что исторический процесс неотвратимо волочет всех нас в светлое коммунистическое будущее.
Это несусветная чушь, навязываемая Поппером и его последователями с абсолютно прозрачными и сугубо идеологическими целями. Поппер, человек, хотя и посредственный, но далеко не глупый, навязывает эту чушь в не лишенном скрытой иронии стиле. «Мол, заказано мне это, и вы понимаете, почему»… Но ироническая извинительность пропадает, как только Поппер начинает возводить напраслину не на любимого им Маркса, а на Платона и Гегеля… Ну, да бог с ним, с Поппером… Главное, что и исторически пессимистический, и исторически оптимистический Маркс к реальному Марксу никакого отношения не имеют.
Для Маркса ценность истории в том, что она наращивает личностное и родовое сущностное начало. А ужас истории — в том, что она это же, наращиваемое ею, сущностное начало отчуждает. Не было бы истории — сущностный потенциал оставался бы крохотным, и не отчужденное от него жалкое существо было бы мало отличимо от зверя. Но если история, создав другой сущностный потенциал (научный, культурный, но и не только), разорвет связь между этим потенциалом и человеком, то… познанная необходимость, не став свободой, будет неизмеримо страшнее и мрачнее непознанной, дочеловеческой, природной необходимости. Почему?
Прежде всего, потому, что производительные силы, отчужденные от человека и человечества и при этом развитые до невероятных размеров роком истории, уничтожат человека и мир. Как именно уничтожат? Тут возможны варианты. Я не хочу сказать, что Маркс все эти варианты (включая, между прочим, фашистский) предвидел и описал. Но делать из него «клинического прогрессиста», пускающего исторические сладкие слюни, смешно и стыдно. Вообще смешно и стыдно, и невероятно смешно и стыдно в так страстно принявшей Маркса стране. Маркс был влюблен в историю трагической любовью, лишенной всякой сентиментальности.
Но дело не только в опасности отчужденных от человека производительных сил, в опасности противопоставленной конкретному человеку абстрактной человеческой сущности. Этой социально-исторической Тени, пожирающей того, кто ее своим существованием порождает.
Дело еще и в том, что отчуждаемая сущность меняет качество по мере наращивания этого самого отчуждения. Легче всего это увидеть, отслеживая динамику культуры — живописи, архитектуры, скульптуры, литературы etc. Сначала произведение целостно по причине своей примитивности. Потом возникают детали, обогащающие целостность. Количество деталей нарастает. Но целостность от этого не страдает, напротив — она восхищает своим богатством, тонкостью структуры, изяществом нюансировки. Затем возникает совсем уж много деталей. Своими деталями (деталями второго ранга) обрастает каждая деталь. Возникают детали третьего, четвертого ранга. Наконец, окончательно исчезает целостность. Деталей слишком много.
Целостность умирает. Но тут же начинают менять качество и сами детали. Они грубеют, тупеют, коснеют в своей надменной самодостаточности. Нарастает формализация, кичащаяся отсутствием внутри нее всякого содержания. Дальше начинается перерождение форм. Наконец, на месте тонкой и восхищающей вас структуры появляется ее антитеза — хищная, прожорливая слизь, булькающий Танатос. Тление производительных сил, не выдерживающих роста собственного отчуждения от человеческой сущности, заражает все своими бациллами. Система проваливается в бездну самоотрицания, в пучину собственного Ничто.
На смену утянутому в этот зловещий водоворот может прийти нечто новое. А может и не прийти. Придя, оно поражает простотой. Потом начинается усложнение. Потом отчуждение становится достаточным для того, чтобы часть стала пожирать целое.
Чем выше качество производительных сил, чем они тоньше по своей структуре («сложнее»), тем чудовищнее их перерождение под давлением нарастающего отчуждения.
Наконец, производительной силой становится сама наука. Отчуждение способно переродить ее больше, нежели все предшествующее. Впрочем, то же самое происходит с экономикой. Прежде всего, с финансами (с рынками вторичных — а затем третичных, четвертичных и так далее — ценных бумаг). А раз с финансами, то и со всей экономикой. Маркс не филистер, он не может восхвалять реальный сектор и проклинать спекулятивный финансовый капитал. Он понимает, что нет и не может быть одного без другого. Что же касается науки, то достаточно рассмотреть все то, что порождает неуправляемый рост числа дисциплин. Уже этого роста — при отсутствии адекватных по силе интеграционных, трансдисциплинарных тенденций — достаточно для того, чтобы наука уничтожила человечество.
Отчуждение лишает смысла все, к чему оно прикасается. Лишенное смысла начинает уставать… Затем сходить с ума… Затем перерождаться… И — рушиться в воронку антибытийности. Маркс не понимал этого? Он понимал это, как никто другой! Маркс думал о производстве и не думал о человеке? Это полная чушь! Маркс думал ТОЛЬКО о человеке. Он боролся с повреждением, преследующим человека и род людской. И назвал это повреждение отчуждением.
Маркс искал повреждение, которое необходимо исправить. Он понимал, что все отягощено злом. Но считал, что зло может быть изгнано. Ощущение остроты зла делало его пессимистом. Вообще пессимистом — и историческим в том числе. Маркс понимал, что история «расширенно воспроизводит» повреждение, то бишь это самое отчуждение. Но лишь она, по мнению Маркса, только и может это самое повреждение излечить («снять»). А может и не излечить! Идея исторического торможения, отказа от истории, войны с нею Марксу абсолютно чужда. Но так же чужда ему идея прогресса, автоматического спасения в ходе благодетельного исторического процесса. Маркс с ужасом следит за тем, как история на отрицательном своем полюсе накапливает это самое отчуждение… Но он влюблен в положительный полюс, на котором эта же история накапливает невероятное богатство беспощадно отчуждаемой сущности.
Представление о повреждении и его снятии — вот что лежит в основе созданной Марксом мистерии. Вот что позволяет нащупывать связь между мистериальностью и метафизичностью марксизма. Подобные нащупывания всегда используют метод сопоставлений. Почему бы не сопоставить мистерию Гегеля и мистерию Маркса? Почему бы не попытаться с помощью такого сопоставления добраться до метафизики Маркса (а также и Гегеля, благо с Гегелем все, как ни странно, проще)? Потому что Маркс, видите ли, всего лишь перелицевал Гегеля, использовал его диалектику, дополнив оную экономической теорией и «оматериалистичнив»? А кто вам сказал, что это так? Профессора с кафедры марксизма-ленинизма? Профессора Гарварда?
А я вот, например, считаю, что они грубо извращают существо дела. И не просто сообщаю читателю свое мнение, а и берусь доказать, что это мнение мое отнюдь не является голословным.
Глава V. Метафизика Творческого Огня
Маркс — гегельянец? Полно! Маркс — единственный серьезный оппонент Гегеля в XIX столетии. Гегель — исторический оптимист. Маркс — нет. Исторический оптимизм Гегеля чудовищен. Гегель уверен в неизбежности конца истории. И его конец истории (примитивной копией которого является конец истории Фукуямы) — это царство Нового духа. Дух истории перестает наращивать и сущность, и отчуждение. Новый дух снимает отчуждение в особых условиях — условиях постистории, условиях, когда сущность превращается в константу. И в этом превращенном в константу виде начинает осваиваться человеком и человечеством во имя очень специфического снятия отчуждения.
Накопленная сущность прекращает самодвижение и потому может рассматриваться как коллекция музейных экспонатов. Каждый элемент накопленного (и не подлежащего дальнейшим метаморфозам) должен всесторонне исследоваться и вводиться в самые причудливые сочетания с другими элементами, представляющими собой такие же музейные экспонаты. Творчество, в виде создания чего-то неслыханного и ранее невозможного, отменяется. Нет истории — нет напряжения — нет и источника подобного творчества.
Кроме того, снятие исторической напряженности размывает грань между возможным и невозможным. Теперь, в отсутствие напряженности, возможно все. Но поскольку эта возможность ровным счетом ничего не значит, то можно сказать, что она и наличествует, и отсутствует. А поскольку она и наличествует, и отсутствует, то это мир, где, с одной стороны, как бы возможно все («Что нам стоит дом построить? Нарисуем — будем жить!»), а с другой — все одинаково невозможно, ибо ни в каком из нарисованных домов жить нельзя.