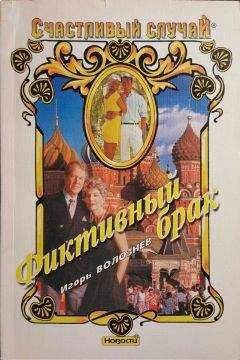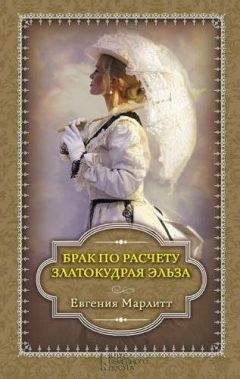Василий Шульгин - Три столицы
Шульгин вернулся в Россию, как мы уже знаем.
Несмотря на то что он решил покончить с политикой после публикации «Трех столиц» и скандала с «Трестом», поселиться в Сремских Карловцах, писать романы, было еще много политических статей и книг по национальному вопросу.
Этот вопрос преследовал его всю жизнь. Он рос, набухая кровью, от года к году. И русский националйст (но не расист) оказался лицом к лицу с теми, кто разделял идеи Гитлера. Сперва он думал «примерно» так:
— Пусть только будет война! Пусть только дадут русскому народу в руки оружие. И он свергнет советскую власть.
Но еще в 1935 году он слышал с эмигрантской трибуны и другое мнение:
— Не за всякую цену мы можем продаваться. Мы не должны присоединяться к тем, кто будет воевать не только с Советской властью, но и с Россией, с русским народом.
И вот Гитлер захватывает Югославию. И снова национальный вопрос — Хорватии дается статус «независимой» и возможность расширяться за счет Сербии. В Сремских Карловцах, ставших хорватскими, лилась кровь. За каждого убитого немца или хорватского усташа расстреливали десять сербов. Их просто не считали людьми. Вниз по Дунаю плыли плоты с пирамидами, сложенными из сербских голов. Генералы Краснов и Шкуро были на немецкой службе.
«Мне удалось не поклониться Гитлеру, — писал Шульгин. — Его теория о том, что немецкая раса, как сероглазая, призвана повелевать над людьми с темными глазами, казалась мне непостижимо нелепой. И в особенности потому, что нелогичный этот расист начал истреблять сероглазых же, т. е. англосаксов, норвежцев, чехов, поляков и русских».
Да, русские. Они не повернули оружие против власти. Они дрались до последнего рубежа. За Родину! Власовцев было ничтожное число, как и эмигрантских батальонов, уничтоженных в боях.
В октябре 1944 года Советская Армия вошла в Сремские Карловцы, а в январе следующего года Шульгина препроводили в Москву и судили за тридцатилетнюю (1907–1937) антикоммунистическую деятельность.
— Ну это «дела минувших дней», — сказал прокурор, и Шульгина приговорили к двадцати пяти годам тюремного заключения, хотя он надеялся на десятилетнюю давность.
Шульгин был освобожден в 1956 году вместе с многими другими, препровожден в инвалидный дом в Гороховце, а потом поселен во Владимире.
Ему повезло, что в верхах нашлись люди, пожелавшие использовать его известность в эмигрантских кругах и большой литературный дар. Его возили в Москву и Киев. Он увидел могучую державу, еще не впавшую в период застоя, но уже чреватую им. И смысл его новых писаний был понят так:
Мы, монархисты, мечтали о сильной России, коммунисты ее создали — слава коммунистам! Есть еще русские эмигранты, занимающиеся «холодной войной» — и мечтающие о «горячей». Теперь в России никого к стенке не ставят, тут нет ни единого человека, который хотел бы войны, а все, кроме опасности атомной войны, — пустяки. «Свергать Советскую власть не надо» — великодушно говорил он эмигрантам, доживавшим свой век в различных уголках Европы и Америки. Хвалил все, что видел вокруг, с наслаждением человека, долго не видевшего воли. Откровенно и благодарно льстил Хрущеву, но не удержался от такого пассажа:
«…мы смотрели балет. Балет этот очень занятный, в него вложена мысль. Представлено, как добродетельная кукуруза борется со скверными сорняками. В смысле хореографическом интересно применение топота для изображения гнева…»
Шпилька, она и есть шпилька. Она прошла цензуру незамеченной. Сохранить нечто шульгинское ему позволили лишь в одном заявлении: «Я — мистик. Мистицизм плохо совместим с материализмом». У этих слов будет продолжение…
И позволили еще сказать откровенно (без чего Шульгин не был бы Шульгиным), что кругом дефицит и очереди, но их обещают очень скоро ликвидировать, что существует «бисова теснота» жилищная, однако «говорят, что через 15 лет будет 15 квадратных метров жилплощади на душу населения». (Напоминаю, что на дворе
был год 1959.)
Но не позволили ему сказать еще больше, что, однако, осталось в рукописях. Когда-нибудь я вернусь к тому, что увидел и что вспомнил Шульгин в двух столицах — Москве и Киеве в 1959 году, как и ко всей жизни его после 1927 года, исполненной приключений и невероятных совпадений…
Довелось ему побывать и в третьей столице, в Ленинграде, где снимался фильм «Дни», переименованный и показанный как «Перед судом истории». В нем тоже были упомянуты «Три столицы». Скажу только об этих кадрах.
Актер, игравший историка-марксиста, спрашивал его о белых, и Шульгин отвечал, что они разбазарили себя в распрях, как партийных, так и личных. Великая миссия превратилась в житейскую свару. Это была война всех против всех. Не было ни программы, ни вождя, которые преградили бы путь мировому шествию коммунизма.
В 1929 году умер великий князь Николай Николаевич, и когда он, Шульгин, стоял в толпе хоронивших, мимо проходили официальные представители многих великих держав. Он тогда подумал, что хоронят последнюю надежду. Он был тайком в России в разгар нэпа, видел, что все хуже, чем до революции, но народ пробуждался к новой жизни, и он готов был склонить свою седую голову перед новым, если бы оно было лучше старого…
Главное впечатление, которое выносил каждый смотревший на экран, можно было выразить коротко — не боится. Человек ничего не боится и совершенно свободно выражает свои мысли. Прямо марсианин какой-то.
Шульгину напомнили, что вот он, политический противник, отбывший тюремное заключение, говорит столь откровенно… Разве это не доказательство той свободы, в которой он изволил иронически сомневаться? Ему напомнили высказывания о Ленине.
Да, он согласен, высказывания в «Трех столицах» о Ленине неуместные, оскорбительные, недостойные. Так он относился к Ленину, а теперь считает своим долгом засвидетельствовать, что Ленин стал святым для многих, для миллионов, поскольку его последователи, размышляя о нем, становятся лучше, а лучше — значит добрее.
Он вновь и вновь возвращался к «белой идее». Он протестовал против мазания всех белоэмигрантов одной черной краской, говорил, что те из них, кто пошел за Гитлером, утеряли право называться белыми.
Ему показывали кинохронику — Власов с окружением. А он упрямо твердил:
— Это не белые!
Апофеозом фильма было его присутствие на XXII съезде Коммунистической партии и встреча со старым большевиком Петровым, громадным тучным старцем, торжествующе насевшим на Шульгина с привычными для зрителей обвинениями, а тот смотрел спокойно, чуть иронично, отвечал непринужденно и… сочувственно.
В финале фильма он произнес монолог:
— Основное мое убеждение — благо человечества. И этому своему убеждению я не изменял никогда. Но методы, которые следуют употреблять для блага человечества, бывают разные. Поэтому я и боролся по-разному…
Странное дело — его уличали во всех и всяческих грехах, а он одной статьей своей, манерой говорить, какой-то неведомой культурой поведения, искренностью вызывал, как мне показалось, злорадную симпатию. Надо же — уцелел! Нет, это был не марсианин, это было ископаемое…
«Перед судом истории». Фильм быстро сошел с экрана, едва ли не через неделю. Как он появился-то, непонятно. Впрочем, напомню, что год был 1965, почти безвременье в идеологических установках, совсем недавнее утверждение Брежнева наверху иерархической пирамиды.
Во время одной из первых встреч с Шульгиным я спросил о фильме. Он сказал:
— Я еще в самом начале работы над фильмом сказал режиссеру Эрмлеру: «За нелегкое дело беретесь. Мне уже ничего не грозит — в моем возрасте инфарктов не бывает, кровь находит обходные пути в сердце. А вы молодой человек (Эрмлеру тогда было за шестьдесят. — Д. Ж.), и эта работа вам может дорого стоить». К сожалению, я оказался пророком — у Эрмлера инфаркт…
Я говорил Василию Витальевичу, что фильм производит впечатление блестящей шульгинской импровизации, и выразил удивление, как ему вообще дали увидеть свет. Но он уверял меня, что картина подвергалась такому «обрезанию», что от нее остались рожки да ножки. И приводил пример:
— Вы помните сцену Дворцовой набережной в Ленинграде. Я разговаривал там белой ночью с девушками в белых платьях — выпускницами школ и по воле режиссера, пожелавшего выгодно подать меня, изъяснялся на трех главных европейских языках. Так вот… мне хотелось еще раз выразить нечто важное для меня… свое неприятие кровавой российской традиции убивать царей. А потом из этой сцены все вырезали, и получился у меня с девицами глупейший диалог. Помните, я там сказал о хрустальной туфельке Сандрильоны. А дальше было так: «Надев хрустальный башмачок, Золушка становится принцессой, а в наше время это опасно. Я мог бы рассказать о четырех принцессах… Но это слишком печальная история!..»