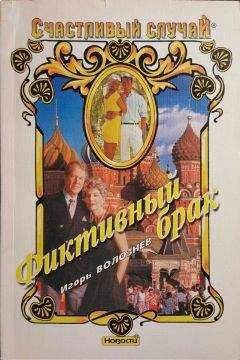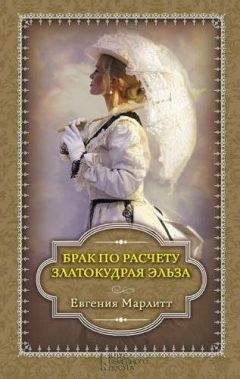Василий Шульгин - Три столицы
Но где народу взять веру в «непоколебимость принципов» после стольких обманов и жертв? В развороченном улье теряется инстинкт самосохранения вида и совершается немыслимое — пчелы жалят друг друга, издыхают, очищая место… для кого?
Не получилось тиранией одного, делается попытка тирании многих. Шульгин приметил, что приход Сталина был заложен в словах Бухарина: «Владимир Ильич был великим инструментом сбережения партийной энергии». Сберегая энергию, докатились до полной лености мысли и некомпетентности в большинстве областей человеческой деятельности. И на это еще наслоилась потеря понятий чести и честности, связанная с разрушением религий, что есть уже чистый сатанизм.
Шульгин был человеком верующим, икону в старости брал с собой даже в дома творчества, но он никогда не был силен в богословии. Хотя кто теперь силен?.. Многословие его в этой области можно свести к тезису о свободе воли. Человек свободен в своих поступках в этой жизни, но судим будет по делам своим там… в вечной жизни за гробом. Но вечность отменили, уподобившись французскому королю, который сказал: «После меня хоть потоп». Исчезла вечность — исчезло ощущение греха. Остался страх наказания, «система социальной защиты», основанная на требованиях текущего политического момента, то есть не на праве, а на произволе.
Напомним, что Шульгин приехал в Россию в период нэпа, и то, что происходило, он считал началом возвращения к естественному развитию экономики, «скоропостижной кончиной марксизма», которую провозгласил будто бы Ленин, «сильнейший в истории внушитель».
Лучше ли стало, когда в СССР слопали всех капиталистов? Теперь добиваются с превеликим трудом того, что уже имели при капиталистах.
Капитал может лежать мертвым грузом. Может спать земля, к которой не приложены ленивые поневоле руки. Нарушается закон спроса и предложения. Пущенный в ход капитал подстегивает труд и удовлетворяет спрос… И вот в социалистической республике твердо установлено собственническое сознание. Наконец русский крестьянин получил свой хутор. Исполняется мечта убитого Столыпина, сказавшего: «Вам нужны великие потрясения, а нам Великая Россия…»
По парадоксальному мнению Шульгина, побеждает «белая идея». Как бы не так!..
Проводив в сентябре 1925 года Шульгина в Сремских Карловцах, бывший сенатор Чебышев потерял его из виду на целый год. Он вспоминал Шульгина думского — щеголеватого, с закрученными кверху усиками, Шульгина крымского — в парусиновой рубахе, бритого, с голой головой, загорелого…
В 1926 году Чебышев съездил в Париж на эмигрантский съезд и узнал, что Шульгин вернулся, а увидел его лишь в октябре, когда В. В. вернулся с Ривьеры. И записал в дневнике:
«Я вспомнил, как во Флоренции показывали Данте на базаре и говорили:
— Это тот, который побывал там (в аду)…
Шульгин уверяет, что Россия наливается соками жизни и что в этом ее спасение».
В тот день они обедали в ресторане с В. В., Марди и Володей Лазаревским. Чебышев подозрительно выспрашивал у Шульгина подробности поездки.
Через несколько дней они обедали у Александра Ивановича Гучкова. И опять те же расспросы…
26 октября Чебышев записал в дневнике: «Странно! Или я чудовищно ошибаюсь в моих предположениях, или Кутепов, Гучков, Шульгин — жертвы чудовищной провокации».
А в ноябре исчезает генерал Монкевиц, помощник Кутепова…
16 января 1927 года Чебышев записывает:
«Шульгин был приподнят, потому что за час перед тем у меня на собрании П. (?) демонстрировал полуистлевшую прокламацию большевиков в Крыму, с назначением за голову Врангеля и Шульгина по миллиону (по курсу это было 200 рублей)».
Но вот вышли «Три столицы», и Чебышев 27 февраля отмечает: «Антон Антонович» у Шульгина — это Дорожинский, товарищ прокурора киевского окружного суда. Он был при мне, когда я был прокурором киевской судебной палаты». Кстати, Сергей Владимирович Дорожинский уже при встрече на границе узнал Шульгина, потому что запомнил его по Киевскому университету — он учился на первом курсе, когда В. В. верховодил среди правых на выпускном.
Книга «Три столицы» шокировала эмигрантов. Одни называли Шульгина в печати «предателем белой идеи», а другие обещали расправиться с ним за то, что он якобы раскрыл контрреволюционную организацию.
Уже из Варшавы, через Липского-Артамонова, Шульгин послал письмо в Москву:
«Еще раз хочется поблагодарить вас за все. На расстоянии это еще виднее. Полуторамесячный инцидент представляется мне сейчас чем-то далеким и совершенно удивительным: как будто добрый волшебник взял меня за руку и, показав царство грез, вернул обратно на землю. Займусь отчетом, который хотел бы закончить возможно скорее…»
Это о «Трех столицах».
Л. Никулин приводит письмо Шульгина «дорогому Антону Антоновичу» от 3 марта: «Отчет может вызвать шум. Не испугаются ли шума давшие согласие, и не смогут ли они, ссылаясь на поднявшуюся шумиху, взять согласие обратно. Быть может, придется ознакомить их предварительно с отчетом и, так сказать, спросить, не считают ли они отчет непозволительной, с их точки зрения, сенсацией».
Л. Никулин и некоторые эмигрантские авторы уверяют, что «Три столицы» читал предварительно не только Якушев, но и Дзержинский, но это вряд ли верно, поскольку тот болел и в июле скончался. Его сменил тоже поляк — Вячеслав Рудольфович Менжинский.
Но никто, кроме Климовича, не знал, что Шульгин переписывался с Якушевым весь 1926 год. Он был в курсе всех дел «Треста», в котором наметился раскол. Сначала кумиром Марии Владиславовны был Якушев, по приказанию которого, по словам Шульгина, она бы дала себя разрезать на части. Но деятельная ее натура не выносила бездействия — от подчиненных ей офицеров она требовала террора против большевиков. Якушев же считал, что свержение большевиков должно грянуть как гром с ясного неба. Тогда возможны эксцессы, но настораживать ранее времени чекистов не стоит.
Мария Владиславовна влюбилась в Опперпута, который тоже был за активные действия. Шульгин же в письмах поддерживал Якушева, считая, как и он, террор вредной отсебятиной, призывал сдерживать зуд бросать бомбы, поддерживать дисциплину.
Они не только переписывались, они встречались. Встречался Шульгин и с Марией Владиславовной в Париже, куда она наведывалась, смело переходя границу, часто не извещая даже об этом Якушева. Кутепов посылал с ней в Россию все новых офицеров.
Дела готовились нешуточные, если судить по письму, которое
Мария Владиславовна привезла Стауницу от Кутепова: «…много слышал о вас, как о большом русском патриоте, который живет только мыслью, чтобы скорее вырвать нашу Родину из рук недругов… Задуманный нами план считаю очень трудным. Для его выполнения следует подыскать людей (50–60 человек). Ваш Усов».
В ноябре Якушев через «окно» в эстонской границе добрался до Ревеля-Таллина и вместе с Марией Владиславовной вел переговоры с руководителями эстонской разведки. Шульц получила известие из Москвы от Стауница-Опперута, что ее муж крепко поругался с ним из ревности, и ей пришлось вернуться.
Якушев проследовал в Париж один, встретился с Кутеповым и великим князем Николаем Николаевичем, от которого получил воззвание к Красной Армии. 5 декабря Якушев посетил Шульгина, квартировавшего тогда у Булонского леса. Встреча была радушной, хотя Мария Димитриевна поглядывала на Якушева косо. Она не могла простить ему волнений из-за поездки Василия Витальевича. Шульгин сказал, что Чебышев по-прежнему подозревает провокацию, но если это так, то он, Шульгин, слепой, а Николай Николаевич — гений. Якушев сказал, что передал вдове Димитрия Пихно большую сумму денег, оставленную ему еще во время поездки в Россию, и привез от нее золотой нательный крест.
Это была их с Якушевым последняя встреча.
Однажды в конце апреля 1927 года Шульгин пошел в русскую церковь на рю Дарю. После службы на паперти к нему подошел Артамонов и взволнованно сказал:
— Василий Витальевич, катастрофа! Вы уже знаете об Опперпуте?
— Каком Опперпуте?
— Об Оскаре Оттовиче, с которым вы обедали у Якушева… Вас просит зайти генерал Кутепов…
Шульгин уже читал в газетах, что 13 апреля в Финляндии и Польше появились некоторые офицеры, из тех, кого он видел в России, а также Касаткин-Стауниц-Опперпут-Упелинц, которого обвиняли в том, что он предал савинковцев, лично расстреливал офицеров в Кронштадте и Петрограде, и называли «советским Азефом». Опперпут, которого до тех пор Шульгин знал лично только как Оскара Оттовича, опровергал слухи тоже печатно и обещал разоблачить деятельность ГПУ, агенты которой будто бы предлагали ему за молчание 125 тысяч рублей золотом и пенсию 1000 рублей в месяц. Но деньги не были доставлены. Предварительно он сообщал, что в секретной операции «Трест» задействовано 50 сотрудников ГПУ.