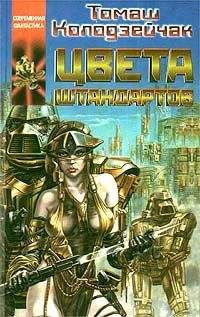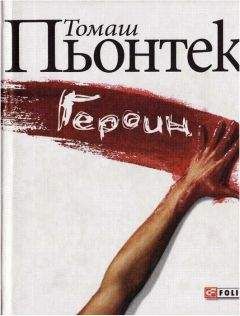Ален де Бенуа - Карл Шмитт сегодня
Здесь мы не будем специально рассматривать содержание политической философии Лео Штрауса. Скажем только, что достаточно прочесть его труды, чтобы отметить, что они радикально расходятся с Карлом Шмиттом. Впрочем, Гейнрих Майер – один из тех, кто убедительно доказали полную несовместимость политической теологии Шмитта и политической философии Штрауса: «Inter auctoritatem et philos-ophiam nihil est medium». «Невозможно, – пишет он, – перекинуть мост через пропасть, отделяющую политическую теологию от политической философии; она разделяет Карла Шмитта и Лео Штрауса даже там, где у обоих, кажется, одинаковые политические позиции, и там, где они на самом деле сходятся в политической критике общего противника»[27]. Он также напоминает: «Хотя политика занимает центральное место в мысли Лео Штрауса, вопрос врага и враждебности для него практически не имеет значения», что в полной мере доказывает ошибочность интерпретаций, приписывающих Штраусу образ мыслей, руководствующийся идеей вражды[28]. Итак, говоря словами Гейнриха Майера, между двумя мыслителями проходит пропасть. Соответственно, мы можем оценить, насколько несерьезны те авторы, которые сегодня пытаются увидеть в Лео Штраусе продолжателя и ученика шмиттовской мысли.
Тезис о том влиянии, которое Карл Шмитт оказал на американских неоконсерваторов через Лео Штрауса, – не более, чем сказка. Но при этом нельзя не признать бесспорную актуальность мысли Шмитта, которую отмечают многие наблюдатели, особенно после терактов 11 сентября 2001 года, и которая в последние годы неизменно подтверждалась как международной жизнью, так и некоторыми инициативами американского правительства. В этом эссе мы будем исследовать основные пункты этой актуальности.
От «регулярной войны» к возвращению «справедливой войны»
«Прежде всего, у государственных мужей должна быть способность отличать друзей от врагов», – пишет Ирвинг Кристол, один из главных американских неоконсерваторов, в газете своего сына Уильяма «The Weekly Standard»[29]. Карл Шмитт, очевидно, признал бы справедливость этого тезиса – и в его дескриптивной части, и в нормативной. По его мнению, сама сущность политического состоит не столько в фактической враждебности, сколько в возможности различения или определения (публичного) друга и (публичного) врага, то есть не в борьбе, а в возможности борьбы. Другими словами, политика предполагает конфликтность: строго пацифистский взгляд на социальную жизнь является аполитичным. Поэтому недостаточная определенность врага в политике оказывается одной из наибольших опасностей.
Впрочем, Шмитт не подписывается под известной формулой Клаузевица, гласящей, что война – не более, чем продолжение политики другими средствами. Напротив, как он подчеркивает, эта дифиниция «для того, кто пытается определить природу политики, не исчерпывает значение войны»[30]. Сама война, как и исключительное положение, о котором мы будем говорить далее, является предельным понятием (Grenzbegriff). Она, несомненно, продолжает политическое, поскольку последнее предполагает враждебность, но не сводится к нему, поскольку обладает собственной сущностью. Шмитт, в действительности, напоминает о том, что если у войны есть своя оптика и собственные правила, они «предполагают, что политическое решение, указывающее на врага, уже состоялось как факт»[31]. Утверждая, что политика даже в мирное время обладает конфликтными свойствами, Шмитт занимает позицию, близкую к взглядам Клаузевица, но не смешивающуюся с ними; скорее, она должна дополнить их и превзойти. Клаузевиц видит то, что есть в войне от политики, а Шмитт – то, что в политике есть от конфликта.
Шмитт разрабатывает политическую концепцию враждебности. Враг, по его мнению, должен рассматриваться политически: он должен оставаться политическим врагом, то есть противником, с которым сражаются, но с которым при этом однажды можно будет заключить мир. В оптике «jus publicum europaeum»[32]* мир, очевидно, остается целью войны: любая война приходит к естественной развязке – к заключению мирного договора. А поскольку только с врагом можно заключить мир, постольку воюющие стороны взаимно признают друг друга. Подобное признание (Другого – одновременно в его тождественности и отличии) является самим условием возможности мира, так как к заключению мира можно пригласить только ту воюющую сторону, которая была предварительно признана. Именно это позволяет Шмитту утверждать, что абсолютная или тотальная война была бы, со строго политической точки зрения, катастрофичной, что в той мере, в какой она стремится уничтожить врага, она приводит к исчезновению основополагающего элемента политического[33].
О «регулярной войне», характерной для вестфальского порядка, основанного на «jus publicum europaeum», заменившем, в свою очередь, старую «respublica christiana», Карл Шмитт говорит, что это та война, в которой воюющие стороны «и в войне уважают друг друга как противников и не подвергают друг друга дискриминации как преступников, в результате чего заключение мира возможно, более того, оказывается нормальным, само собой разумеющимся окончанием войны»[34]. Война, проводимая согласно старому праву народов, подчиняется правилам, закрепляющим, например, поведение войск по отношению к пленным и к гражданскому населению, уважение нейтральных сторон, неприкосновенность послов, правила сдачи укреплений, способы заключения мирного договора. На практике она никогда не нацеливается на свержение суверена или на изменение режима той или иной страны, поскольку чаще всего отвечает простым территориальным претензиям. Наконец, эта война всегда должна быть исключительно межгосударственной. Государство обладает одновременно монополией на легитимное насилие (Макс Вебер) и монополией на политическое решение (Шмитт), следовательно, запрещены частные войны и семейные вендетты (этот запрет постепенно распространится и на дуэли). А это также означает, что индивиды теперь могут быть (публичными) врагами только в качестве членов или граждан определенного государства, а не в качестве собственно индивидов. В вестфальском порядке «jus publicum europaeum» признается за каждым суверенным государством, поскольку это право составляет часть его конститутивных свобод и прав. Подобная система исключает саму идею «международной полиции». Кроме того, она признает легитимность нейтралитета третьих сторон.
С точки зрения Шмитта, огромная заслуга «jus publicum europaeum» состоит в том, что средневековое учение о «справедливой войне», вдохновлявшееся моралью, оно заменило политической доктриной «войны по формам», или «оформленной войны» (Ваттель). Именно тогда, когда утвердились суверенные государства, в частности по отношению к Римской церкви (вследствие «нейтрализации» религиозных войн, разделявших и разорявших Европу), эта новая доктрина была введена в действие. Что привело, прежде всего, к признанию равной суверенной правосубъектности и равного суверенитета государств, а затем – к акцентуации уже не «jus ad bellum» (условий, которые позволяют начать войну), а «jus in bello» (условий, в которых должна развертываться война). Поэтому теперь не война допускается, когда объявляется справедливой, а враг становится «справедливым» в той мере, в какой он признан. Следовательно, война между государствами становится фундаментально симметричной, она строится по образцу дуэли, в которой противопоставлены противники, взаимно признающие aequalitas[35] друг друга и соблюдающие правила одного и того же кодекса. Благодаря формальному понятию «justus hostis», признанного врага, статус публичного права, приписываемый войне, превращает ее в урегулированное столкновение суверенных и формально равных государств, которое, по существу, «не больше чем дуэль между кавалерами»[36].
Шмитт, никоим образом не считая, будто война освобождает от норм права, напротив, неустанно доказывает, что она должна быть подчинена принципам «jus in bello». Как пишет Норберт Кампаньа, «шмиттовское понятие войны – это в своей основе понятие юридическое»[37]. «Jus publicum europaeum», определявший границы, которые нельзя нарушать, не давал вооруженным конфликтам вырождаться в тотальную войну, то есть в «слепое взаимоуничтожение». Как пишет Шмитт, именно так была достигнута «рационализация, гуманизация и правовое оформление, одним словом ограничение войны»[38], то есть ее усмирение. Доктрина «войны по форме» равноценна ограничению войны, поскольку она делает невозможной войну на полное уничтожение. «Jus publicum europaeum» было основным katechon’ом, фактором, отсрочивающим возвращение справедливых войн в горизонте юридического универсализма. Следовательно, по Шмитту, война никогда не является целью в себе. По его мнению, она не имеет даже ценности в смысле символической (или эстетической) репрезентации человеческого существования: «военные ценности», как мы уже говорили, ему совершенно чужды. Подобная концепция войны, признавая неизбежность последней, явно служит делу мира. Если политика определяется содержащимся в ней элементом конфликтности, война полагается в качестве исключения, как мимолетный сбой нормального порядка вещей, коим является мир.