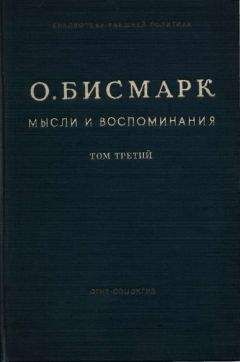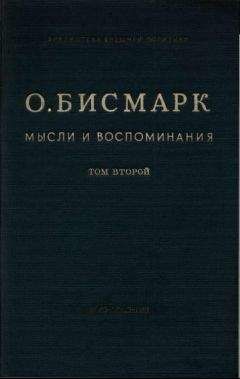Йоахим Радкау - Эпоха нервозности. Германия от Бисмарка до Гитлера
Сам жанр клинической истории оказался в силу своей схожести с жанром новеллы необычайно популярным – как в медицине, так и среди читающих масс, чей интерес подогревался и пикантностью, ужасностью, удивительностью, содержащейся во всякой истории. Это объясняет и феноменальную популярность главного сборника таких историй – «Половой психопатии» Рихарда фон Крафт-Эбинга, своеобразной «Тысячи и одной ночи» сексуальной патологии, даром он пытался скрыть волнующие подробности за латинскими терминами. А истории, описанные Фрейдом, которые он и сам открыто сравнивал с новеллами, были сконструированы уже настолько искусно, что читались как детективы. Так все эти голоса и частные жизни проникли в общественность и культуру, так складывался тот самый повсеместный нервный дискурс, о котором идет речь, и он отделялся от дискурса безумия, не менее мощного, хоть и более быстротечного. Но это уже другая история.
Разделила их в существенной мере сама наука в процессе собственной дифференциации и определения себя и своего предмета. Разделила терминологией. Отправной точкой в истории называния болезненных состояний, при которых не страдала человеческая «материя», могла стать, конечно, только душа – Seele, – отсюда возникли и недуги, и болезни, и мир, которые по сути были психическими, но назывались «душевными»: Seelenleben, Seelenleiden, Seelenkrankheit; и, соответственно, одним из первых имен самой психиатрии было Seelenheilkunde – буквально «умение исцелять душу». А раз появляется понятие болезни, то в игру вынуждена вступить медицина, уже обладающая статусом научного мероприятия, для которого душа семантически перегружена, размыта и, говоря откровенно, сентиментальна. Тогда обратились к понятию Geist – дух, так как это уже категория, прижившаяся в философии, пусть статус ее как науки сомнителен, но она выстраивает явления объективного и субъективного мира в систему и пытается их трактовать. Так страдание души в процессе самоутверждения психиатрии как науки перешло в болезнь духа – Geisteskrankheit, хотя суть осталась прежней. Но и Geist – слишком абстрактно, ибо философично, поэтому лучше психика – Psyche – да, тоже абстрактно, но уже конкретнее, так как заимствовано из языка академических кругов. Наконец, болезнь стала психической: psychische Krankheit. Почему же лучше всего прижились именно «нервы»? Вероятно, не только потому, что нервные расстройства в обществе превосходят психические количественно. Как кажется, нервы давали больше ощущения некой материальности, нервы были ближе к телу человека, которое он ощущает постоянно, за нервы легче зацепиться, чем за непонятную ученую психику, абстрактный дух, не говоря уже о совершенно эфемерной душе. Нервы оказались ближе к повседневности.
Более того, «нервы» стали стремительно (как и слово «быстро», schnell) проникать в ткань языка, поселяться в его плоти. Сам немецкий язык стал приучать своих носителей к нервам как к чему-то повседневному. Так, нервная система называлась Nervenkostüm – «нервный костюм», а собственное раздражение стало очень удобно лаконично выражать с помощью нервов: сказать, что кто-то «пилит мне нервы» (Nervensäge), или пожаловаться, что у тебя «украли последний нерв» (den letzten Nerv rauben). «Нервы» в языке даже победили безумие: так, «Я сойду с ума!» не имеет в виду безумие в клиническом смысле, но подразумевает именно нервную перегрузку – «не выдержат нервы».
Стремление психиатрических наук к власти и расширению сфер своего влияния сказывалось на культуре и положительно. Не только в том плане, что психиатры стали проецировать свои методы и знания на объяснение культуры в широком смысле слова (иногда заходя и слишком далеко, яркий тому пример – евгеника и ее последствия для немецкой истории), но и в том, что она питала культуру художественную, а художники, осмысляя новые, научные концепции человека, не только оформляли культурно-социальные тенденции собственными средствами, но и задавали им впоследствии направление и тон.
Ведь сложно себе представить «нервный» дискурс без яркого периода высокого модерна – открытие внутреннего мира, теперь вдруг объяснимого новыми средствами и словами, обращение «вовнутрь», «вчувствование» готовили золотой рубеж веков, взбудораженный предчувствием будущего, к тому, чтобы это будущее увидеть в нервах. Так, Герман Бар (пожалуй, самый влиятельный теоретик искусства модерна) на рубеже веков абсолютно в духе времени провозгласил, что новая литература повернется к «новой психологии», а новый идеализм – к новому содержанию: «Новый идеализм выражает новых людей. И они – нервы; все остальное успело отмереть, пожухнуть и зачахнуть. Они могут переживать одними лишь нервами, реагировать – из одних лишь нервов. Все происходит на их нервах, и все, чего они добиваются, исходит от нервов. […] Содержание нового идеализма составляют нервы, нервы, нервы»[12]. По Бару, нервы станут единственно возможным способом выражения нового человека, а «нервозная романтика» и «мистика нервов» вытеснят натурализм. Важно здесь не то, насколько оправдались чаяния Бара в отношении искусства (а некоторые из них оправдались) и сколько сторонников или противников он нашел, но важно, что это – один из ключевых текстов эпохи, а значит – часть его дискурса, который он во многом и генерирует.
Пример из другой области подтверждает, как слаженно работают дискурсивные механизмы: «Воспоминания нервнобольного» (1900–1902) Даниэля Пауля Шребера – опыт самоанализа, где даже нервное расстройство раскрывается пациентом через понятия нервов. Шребер пишет, что ему удалось перевести свое душевное состояние на «язык нервов», «который здоровый человек, как правило, не осознает. […] Использование этого языка нервов при нормальных обстоятельствах зависит, конечно, […] от воли того человека, о нервах которого идет речь. Ни один человек не может заставить другого пользоваться этим языком нервов. Но в моей ситуации, с момента […] критического поворота моей нервной болезни, настал тот случай, что нервы мои извне и беспрестанно без малейшего повода приходят в движение»[13]. Как и с Германом Баром, здесь важна не реализация идеи в практической жизни, но тот факт, что подобный текст – во всех смыслах слова продукт культуры, и вместе с тем сам – ее созидающий механизм. Как иначе объяснить, что непревзойденнейшим архитектурным шедевром Отто Вагнера была построенная в первое десятилетие XX века в Вене церковь Св. Леопольда для душевнобольных при крупнейшей австрийской клинике для нервно- и душевнобольных Ам Штайнхов? И что в психиатрических клиниках были не только знатные пациенты, но и знатные «гости»?
Психиатрические науки получали особый фидбэк от высокой культуры. Через основанный в рамках науки жанр патографии (клинической биографии выдающейся личности) они осваивали пространство культуры на свой лад – культура неврологического прочтения нервной культуры. Главным проектом этих претензий был знаменитый труд «Гениальность, безумие и слава» психиатра Вильгельма Ланге-Эйхбаума, охватывающий 11 томов патографий практически всех ключевых фигур культурной истории. Проект написания такой «клинической истории культуры» и утверждения психиатрии как ведущей науки не состоялся или не завершился. Однако, как видно, написать культурную историю нервов – достойный проект, который Йоахим Радкау виртуозно воплощает в жизнь на страницах этой книги.
Исходя из частных, отдельных историй пациентов и их болезней, Радкау пишет не просто историю концепции «нервов». История «нервного» дискурса как история говорения о нервах оборачивается историей целой культуры и историей отдельной страны. Психическое, особенно в своем патологическом, диковинном разрезе, становится основой толкования культуры – как национальной (в плане «особого пути» Германии и ее самосознания), так и художественной (в плане различных модусов рефлексии), и личностной. В колоссальной работе Йоахима Радкау отчетливо просматривается удивительная и редкая жемчужина: История как метод.
Сергей Ташкенов
Введение
До сих пор все, что придавало красочность бытию, не имеет еще истории: разве существует история любви, алчности, зависти, совести, благочестия, жестокости?
Фридрих Ницше, «Веселая наука»[14]Под известной историей Европы течет история подспудная. Она суть не что иное, как судьба вытесненных и обезображенных цивилизацией человеческих инстинктов и страстей.
Макс Хоркхаймер, Теодор Адорно, «Диалектика Просвещения» (см. примеч. 1)[15]История гнета страданий, поиска смысла и войны
Имеет ли нервозность историю? Может ли вообще существовать подобная история? Если речь идет о термине и дискурсе, то начало такой истории датируется на удивление точно и даже просматриваются национальные пути ее развития. Около 1880 года сначала в США, а вскоре и в Германии жалобы на нервозность, нервную слабость, «неврастению» становятся знамением времени. Почти мгновенно возникает обширный поток специальной литературы, ослабевающий лишь к 1914 году. Вместе с ним растет подозрение, что эти труды и сами по себе играют немалую роль в распространении нервозности. В 1909 году берлинский врач Отто Штульц предостерегает, что первой заповедью любого невротика должен быть запрет на чтение медицинской литературы. Дискурс нервов стал подпитываться подводным течением самокритики, но и эти тексты повествуют о «нашей нервозной эпохе».