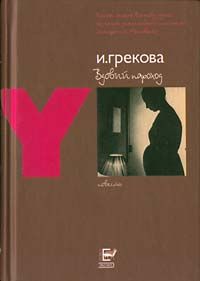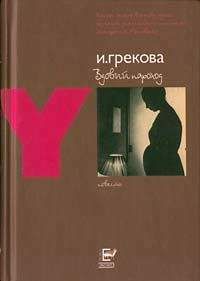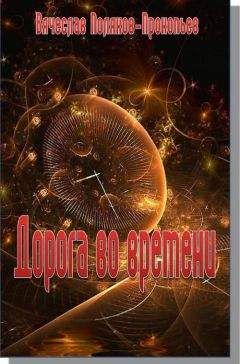Самуил Бронин - Малая психиатрия большого города (пособие для начинающего психиатра)
Общая же и подспудная тенденция на деле такова, что число случаев, не поддающихся имеющимся в нашем распоряжении классификациям, постоянно растет, и исследователи, кажется, втайне уже склонны отказаться от этой задачи — нисколько не теряя при этом убежденности в правоте исходных позиций».
Эту инвективу в адрес нозологически ориентированной психиатрии можно цитировать и дальше: она весьма примечательна. (Что же касается изложенной далее позитивной программы, то здесь автор останавливает внимание читателя на проблеме психических конституций как преформирующего, предопределяющего развитие психического заболевания фактора и здесь обрывает свою речь: хочет, кажется, сказать больше, но не имеет для этого достаточно веских данных.)
Скепсис и общая направленность статьи близки к концепциям вырождения Мореля и «единого психоза» авторов текущего столетия. Первая выгодно отличается от второй тем, что устанавливает определенный «количественный» порядок в хаосе наследственной патологии: «лестницу» психических расстройств, нисходящую по мере нарастания тяжести наследственных изменений и «глубины вырождения» (P. Pichot). Этот «градационный» взгляд на вещи никогда не уходил из поля зрения психиатров и незримо присутствовал едва ли не во всех общих построениях и вольных и невольных констатациях и интерпретациях самых различных фактов: в учении J. Jackson о послойном строении психики и ее последовательной «диссолюции» или, например, в делении синдромов по степени тяжести «поздним» Крепелином. Мы хотим напомнить в этой связи известную схему А. В. Снежневского регистров психической патологии. Она приводилась автором дважды: в известной статье о нозологической специфичности психопатологических синдромов (1) и в главе Руководства по психиатрии (2), посвященной общей психопатологии. Схема эта выверена опытом наблюдения большого числа случаев и подтверждена изучением динамики психических расстройств у отдельных больных — она справедлива, но если это так, ее можно исследовать на применимость в других «сходных» или «близких» ситуациях. Природа экономна в своих решениях, и если какая-то закономерность верна, то ее обычно находят «по соседству» — на иных этапах и уровнях развития того же феномена, того же системного целого. Если взглянуть на ту же схему с точки зрения популяционной психиатрии, где единицей наблюдения являются не отдельные больные, а их множества, то нетрудно заметить, что перед нами не только ряд синдромов-болезней, утяжеляющихся по мере «углубления» индивидуальной патологии, но и ряд последовательно утяжеляющихся наследственных состояний, наблюдающихся в населении и имеющих в существующей систематике вид независимо существующих нозологических единств или «кругов наследования». Ее, иначе говоря, можно использовать в качестве модели «единого психоза вырождения» на нынешнем клиническом уровне (не слишком, впрочем, отличающегося от морелевского).
В несколько упрощенном виде, в движении от тяжелого к более легкому из расстройств, эта схема выглядит так:
В этой пирамиде место слабоумия занимает олигофрения — как наиболее ранний и злокачественный синдром наследственного страдания, далее — эпилептическая болезнь, шизофрения (кататония), затем — параноид, которому придется выделить в связи с этим отдельное и давно ожидаемое им место в психиатрической систематике (хотя и не более самостоятельное, чем у прочих единиц наследственной патологии), далее — аффективные расстройства, к которым здесь следует отнести монополярную протрагированную депрессию, включающую в себя инволюционную гипотимию. (Эти формы депрессий должны рассматриваться отдельно от циркулярной аффективной патологии: давно замечено и подтверждено генетически, что это разные по своей природе состояния — циркулярность близка к так называемому «дегенеративному синдрому», которому присущи также патология влечений и та или иная степень задержки эмоционального развития.) Нетрудно заметить, что в названной очередности располагается не только тяжесть страдания, но и преобладающее время проявления, пики заболеваемости перечисленных «синдромов-болезней». Видимо, той же чередой идут стертые болезненные состояния, ведущие к той или иной «одноименной» психопатизации личности и наслаивающиеся в ней последовательно: дебильностью, эпилептоидией, шизоидней, паранойяльностью, конституциональной гипотимией — в виде своего рода «пластов» или «прослоек» в едином конгломерате «мозаичной» психопатии. В «чистых типах» мы имеем дело с одним из звеньев этой цепи, единственно видимым или наиболее выпуклым, но известно, что не менее (если не более) часты случаи с последовательным или изначально неразделимым взаимоналожением разных психопатических состояний — отсюда комбинированные промежуточные формы «шизоэпилептоидии», «пропфшизоидии», истероэпилептоидии и т. д. «Выделяемые нами стерильные формы большей частью представляют собой искусственный продукт схематической обработки того, что наблюдается в действительности. Чистые формы психопатий в том виде, как их принято описывать, встречаются редко, в жизни преобладают формы смешанные» (П. Б. Ганнушкин6).
Главное противоречие этой схемы с действительностью — в ее привязке к началу жизни: чем ближе к рождению, тем патология тяжелее, хотя мы знаем, что существует не один, а по меньшей мере — два противоположных «полюса заболеваемости» и второй связан с концом нашего существования. Противоречие это преодолевается допущением зеркальной симметрии жизни — конечным возвращением человеческой одиссеи к ее истокам: старость и смерть как вывернутое наизнанку детство и рождение. Предположение это для психиатра не столь бессмысленно, как для других врачей: для него возвращение старика в детство и ребячество — феномен, наблюдаемый ежедневно (да и для общего биолога начало часто родственно концу, и речь в таких случаях идет о включении и выключении одних и тех же материально действующих генов). При таком взгляде на события мы имеем не одну, а две симметричные пирамиды, «складывающиеся» основаниями на линии рождения-смерти и имеющие общей верхушкой так называемое психическое здоровье — время и состояние, в течение которого, с теми или иными послаблениями и задержками, действует отсрочка от генетически обусловленного фатума.
Другой аспект популяционных исследований, тесно связанный с предыдущим и являющийся его повторением и отражением на общечеловеческом уровне спирали, — это отношение болезни к норме: здесь психиатрия вплотную подходит к антропологии.
Во-первых, психических расстройств в населении слишком много — так много, что они должны считаться не столько патологией, сколько «нормальным» признаком, подчиняющимся в своем распространении гауссовой кривой и формуле. Дело, собственно, даже не в количественных отношениях, а в сущности так называемой нормы. Она описывается как отсутствие болезни и по сути дела действительна поэтому только болезнь: отсутствие чего-либо не формирует явления, а лишь обнаруживает присутствие его «зеркального позитива». Выделение явления по негативному признаку всегда сомнительно и побуждает присмотреться к полноте или даже — реальности декларируемого присутствия-отсутствия; такой пересмотр приводит иногда к находкам иного признака, оставшегося скрытым и незамеченным за просчетами одномерно логического мышления. Позволим себе привести в связи с этим отрывок из «Курса лекций» В. Маньяна, стоящий нового прочтения:
«Галлюцинации возникают в корковых структурах восприятия и вызываются состоянием их перевозбуждения… в них совершается разряд, дающий звуковое представление — так же как если бы оно было предопределено импульсом из периферии… Расстройство настолько полно воспроизводит запечатленный в мозгу образ, что сопровождается полной уверенностью больного в том, что оно истинно… Когда болезнь прогрессирует, корковые центры больного полностью эмансипируются: отдельные слова, фразы, монологи возникают в них вне всякой связи с течением мысли больного… устанавливается своего рода диалог между самим больным… и партнером, расположенным в корковом центре слуха, наступает своего рода раздвоение личности. Еще позже автономия галлюцинирующих центров становится всеобъемлющей, они начинают действовать во вполне автоматическом режиме…»
В этом описании (если отвлечься от наивного представления о локальности, пространственной ограниченности так называемых «центров») все превосходно, но упущена одна важная и, может быть, главная сторона дела: болезнь не столько порождает автоматизм, сколько, через его разрушение, выявляет, делает очевидным иной, изначальный и общий, функционирующий в едином режиме, автоматизм человеческих «высших центров». Они тоже получили некогда собственную и далеко идущую автономию, дар внутренней и внешней речи, способность к озвучению и осмыслению ассоциаций, к выделению и обособлению «паразитирующего» в мозгу сознания — известного «Я», постоянно «отождествляющего с собой» психические акты. В этом свете болезнь не создает, а разрушает и потому — выявляет созданное до нее, и в нашей первоначальной антитезе члены ее меняются местами: теперь формообразующим признаком становится здоровье, понимаемое как целостность видового психического автоматизма, а болезнь — его прогрессирующее отрицание, распад и расчленение. Но и сам этот изначальный автоматизм, хотя и является нормой для человека, в более широкой биологической перспективе — если не патология, то субстрат, тесно связанный с возможностью психического заболевания: недаром наши мысли так похожи на псевдогаллюцинации. В этом контексте снова на первый план выходит болезнь, но понимаемая иначе — как видовой признак: тогда всякий человек в сравнении с другими животными (и тем более — деревьями) скрыто болен, несет в себе возможность психического расщепления и заболевания, а явная болезнь, психическая болезнь в тесном смысле слова, есть результат неустойчивости такого состояния и вызывается наличием или отсутствием других привходящих, вредоносных факторов или гипотетических протекторов, существовавших изначально или накопленных в ходе эволюции и защищающих от реализации универсально распространенной болезненной потенции. Такая посылка решает, в частности, извечный спор о том, всякий ли человек может заболеть психически: если он болен от рождения (потенциально или явно — для биолога не столь важно), если это его «кара за первородный грех познания», то вопрос снимается сам собою.