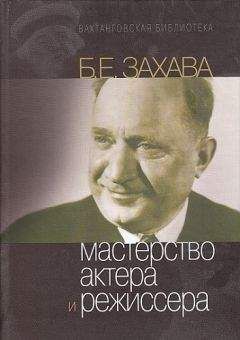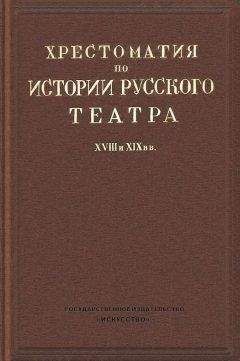Андрей Якубовский - Профессия: театральный критик
Стоит только всмотреться в открытое лицо этого взрослого дитяти, купающегося в творимой им самим атмосфере поставленного на широкую ногу и открытого светским визитерам дома;
стоит только заглянуть в его широко раскрытые, доверчиво уставленные на мир глаза, которые то сверкают восторгом, когда Журден внимает наставлениям учителей или прикладывается к ручке прелестной До-римены, то туманятся искренней грустью и благородным негодованием по поводу бестолковости своих домашних, невосприимчивых к чудесным премудростям философии;
стоит только всерьез воспринять растерянность и ощутимую душевную боль, с которыми Журден Этуша узнает в финале о злом розыгрыше, жертвой которого он стал (а в финале вахтанговского спектакля игровая его настроенность и в самом деле уступает место драматическому тону),
стоит только поддаться этим соблазнам, а к этому побуждает прекрасная игра актера, — и сразу станет ясно, что же именно хочет сказать Владимир Этуш своим Журденом.
Он раскрывает субъективные и весьма трогательные переживания комического по чертам своего характера персонажа, потянувшегося к интересным ему людям, доверчиво открывшегося навстречу увлекательным премудростям, одержимого жаждой новизны. Раскрывает, не ослабляя комических красок образа, но словно не обращая внимания на вещи самоочевидные: Журден тянется к светским прожигателям жизни, восторгается нелепостями, видит новизну там, где— обыкновенное надувательство; Журден прежде всего "мещанин во дворянстве" — то есть исторически определенный тип, сатирически высмеянный Мольером с бескомпромиссных общественных позиций.
Итак, в театрально-красочной, игровой стихии вахтанговского "Мещанина во дворянстве", сохраняя с ней связь, но и решительно выступая из нее, возникают два образа— Учитель философии и господин Журден. Они составляют, на мой взгляд, высшие актерские достижения первой мольеровской постановки Театра Вахтангова (в целом она дала ответ и на поставленный в начале статьи вопрос: так ли уж легко уловима и доступна мольеровская театральность, взятая сама по себе, помимо учета главного направления гения Мольера?). Они, как бы то ни было, означают поиск новых решений мольеровской комедии. Они же в первую очередь и привлекут внимание к новой работе вахтанговцев, которая подтверждает неуклонно растущий интерес к Мольеру.
(В игре и вне игры // Театр. 1970. №2).
М. Горький. "Варвары"
Театр имени Леси Украинки. Киев,
декабрь 1973 г.
В современном искусстве, как никогда, ценится индивидуальность художника. Однако без движения даже самая сильная индивидуальность в конце концов тускнеет. Поэтому радостна встреча со спектаклем, в котором, не изменяя себе, режиссер как бы обновляется.
Во время гастролей Театра имени Леси Украинки в Москве я видел две постановки Эдуарда Митницкого: "Варшавскую мелодию" Л. Зорина и "Марию" А. Салынского. Разные по проблематике и охвату жизненного материала, спектакли эти отличались друг от друга и по режиссерскому построению. Режиссер "умирал в актере" в камерной пьесе Зорина и ощутимо присутствовал на сцене в "Марии". Разные задачи, поставленные драматургами перед режиссером, помогли проявиться его собственным пристрастиям, позволили угадать направление его интересов, почувствовать своеобразие его искусства.
В "Марии" Митницкого привлекла не только острота конфликта, дающая сюжету все новые и новые повороты. Режиссер не прошел мимо этого, но поставил на службу главному, с его точки зрения, открытию драматурга: Мария Одинцова имеет право руководить людьми не по должности секретаря райкома, а по душе, по щедрости сердца своего и таланта, по нерасторжимости своей с делом, которому служит, которым каждодневно занята. Режиссер доверил центральную роль Валерии Заклунной, наделенной особым даром искренности, исповедничества, и бережно помог молодой, мало кому тогда известной актрисе слиться с героиней, отдать ей биение сердца, зажить ее жизнью.
И в "Варшавской мелодии" Митницкий нашел способ повести разговор о высоте нравственных критериев, о красоте душевной стойкости. Сохранив верность пьесе, режиссер возложил на Виктора бремя личной ответственности, трезво соразмерил ограниченный нравственный потенциал героя с безграничным запасом духовного богатства Гели. И в камерном по очертаниям спектакле возник образ драматической силы и трагической просветленности, взывающий не к состраданию, не к сочувствию, но к мужеству, — Геля Ады Роговцевой.
После этих двух спектаклей Митницкий представлялся мне режиссером сугубо психологического плана, увлеченным сложностью внутреннего мира человека, художником, интересы которого находятся преимущественно в сфере морали, утверждения положительных начал.
Пьеса Горького предъявила режиссеру особые требования. В ней исследуется не столько отдельно взятый человек, — как бы ни был внутренне он сложен и какие бы многообразные отношения ни связывали его с окружающими, но система социальных связей. Историческое предощущение новой жизни утверждается здесь от противного: мир "Варваров" закрыт почти наглухо, здесь варварство "деревянной" Руси — там варварство "железной" России, как писал Ю. Юзовский. Между Русью и Россией по всему пространству пьесы идет ожесточенная схватка; ее отзвуком становится разбросанный, шумный, многоголосый, нарастающий спор, в который вовлечены все персонажи без исключения. Они в ожесточении спорят друг с другом, с отсутствующими оппонентами, спорят с историей, пытаясь ощутить себя ее родными детьми, а не пасынками. Персонажи даются не только сами по себе, но и в скрещении сторонних мнений, чужих восприятий. Все тю большей части справедливы в нападках на окружающих, но не видят своих недостатков, все правы по отношению к другим, но катастрофически заблуждаются на собственный счет. Горький дает высказаться всем, предоставляя нам возможность соотнести одно высказывание с другим и ощутить "счет" истории, который она предъявляет каждому.
Суметь пойти вслед за Горьким в раскрытии социальных корней "варварства", дать прозвучать голосу истории в многоголосице шумной свары, наконец, осветить современной мыслью правдиво и широко воссозданную драматургом картину прошлой жизни — задача из самых сложных.
Поначалу спектакль несколько озадачивает: праздничной красочностью, динамической энергией, комической звучностью, причудливыми контрастами серьезного и смешного он как будто мало отвечает восприятию горьковской драматургии как сугубо психологической, в которой тема неторопливо движется сквозь толщу быта к потаенным до времени взрывам и катастрофам. Спектакль продвигается вперед рывками — от одного конфликта до другого, распадаясь по первому впечатлению на отдельные эпизоды. Разумеется, Горький определил жанр "Варваров" как "сцены в уездном городе", и все же в таком построении действия было нечто нарочитое, словно режиссер задался целью вынести на поверхность композиционный каркас пьесы, как бы минуя психологическую жизнь персонажей.
Но чем пристальней всматриваешься в спектакль, тем яснее видишь силы, которые сводят отдельные фрагменты в общую картину мира, расколотого на человеческие атомы, вступающие в беспорядочные отношения друг с другом. И в каждом таком отдельном атоме, в каждом случайном общении и непрочном союзе властно давало знать то, что стало первопричиной этой разобщенности.
При достаточно полной обрисовке каждого характера персонажи вызывают к себе интерес в первую очередь как обособленные системы, в каждой из которых происходит испытание этического начала. Сохранив психологические, бытовые, даже житейские краски, режиссер предпринимает социальное исследование. Выдвигая на первый план вопросы морали, он разоблачает отразившуюся в ней бесчеловечность общественных отношений. Режиссер толкует понятие "варварства" расширительно, понимая под ним забвение человечности.
Художник М. Улановский окружил игровую площадку полукольцом глухого забора. А над забором, на живописном заднике во всю сцену, сходятся в зените как бы увиденные с самой нижней точки роскошные купы деревьев, аккуратные маковки церквей, островерхие шатры стройных колоколен. Декорация рождает ощущение, что персонажи копошатся на дне глубокого колодца, а еще вернее — оврага или ямы. Похоже, что художник и режиссер отталкивались в декорационном решении спектакля именно от этих образов, подсказавших в свое время Чехову и Куприну названия их произведений — "В овраге", "Яма". Природа и красота недоступны "варварам". И сад, и праздничный стол во всю ширь сцены, и гостиная в доме Богаевской, у крыльца которого в финале застрелится Надежда Монахова, — все уместится в непроницаемой ограде. Забор кладет пределы этому миру и именно поэтому придает всему на сцене происходящему характер широкого и зримого обобщения: через часть познается целое, городок Верхополье тоже осколок громадного зеркала жизни.