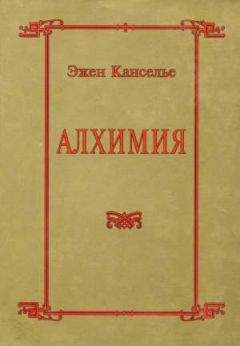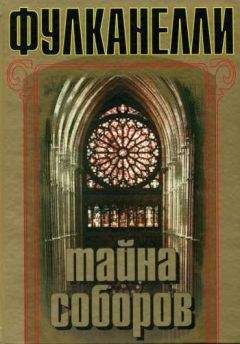Ролан Барт - Нулевая степень письма
Конечно, классическая речь не достигает функционального совершенства, свойственного математическим построениям: отношения выражены здесь не при помощи специальных знаков, а только побочными средствами формы и композиции. Реляционная природа классической речи проявляется в том, что сами слова отступают на второй план, а на первый выходит их линейная упорядоченность; изнашиваясь в тесном контексте всегда одних и тех же отношений, слова классического языка тяготеют к тому, чтобы превратиться в элементы некоей алгебраической системы: риторическая фигура, клише оказываются потенциальными инструментами связи; они утрачивают свою собственную плотность ради того, чтобы занять более прочное место внутри речевой последовательности; подобно химическим элементам, они обладают свойством валентности и образуют языковое пространство, насыщенное симметричными связями, пересечениями и узлами, из которых — не имея времени задержаться и удивиться отдельному слову — вырастают все новые и новые смысловые интенции. Едва успев передать собственный смысл, любой элемент классической речи превращается в своеобразный проводник или анонс, передающий вес дальше и дальше иной смысл, который стремится не укорениться в глубинах отдельного слова, а пронизать собою весь акт понимания, то есть акт коммуникации в целом.
Расшатывание, которому Гюго попытался подвергнуть александрийский стих — наиболее реляционный из всех стихотворных метров, — в зародыше таило все будущее современной поэзии, ибо речь шла о том, чтобы, уничтожив реляционную интенциональность речи, поставить на ее место взрывчатую силу отдельных слов. Действительно, современная поэзия — в той мере, в какой она противостоит классической поэзии, равно как и всякой прозе, подрывает стихийную функциональность языка и оставляет в неприкосновенности только его лексические основы. В реляционных отношениях она сохраняет лишь само их движение, их музыкальность, но не истину, которую они в себе заключали. От отношений остается одна только пустая оболочка, и высоко над их горизонтом вспыхивает сияние отдельного Слова; грамматика лишается своей особой цели, превращается в просодию, это не более чем модуляция, длящаяся лишь затем, чтобы явить Слово. Строго говоря, отношения здесь не распадаются, они просто приобретают сходство с зарезервированными, но никем не занятыми местами, это пародия на связи, и такое отсутствие необходимо, чтобы Слово, во всей своей насыщенности, смогло вырваться за пределы волшебного, но бесплотного мира реляционности и зазвучать подобно гулу или бездонному знаку, подобно голосу «ярости и тайны»**.
В классическом языке именно поток отношений влечет за собой Слово и уносит его вслед за убегающим впереди смыслом; в современной же поэзии эти отношения возникают как продолжение Слова; Слово — это их «родной дом», оно — корень, глубоко сидящий в самой просодии слышимых, но незримых функций. Синтаксические связи обладают завораживающей силой, но питает их все же Слово, явление которого потрясает, подобно неожиданно открывшейся истине. Назвать эту истину поэтической — значит признать, что поэтическое Слово не может быть лживым, потому что оно всеобъемлюще; в нем сияет безграничная свобода, готовая озарить все множество зыбких потенциальных синтаксических связей. Когда незыблемые связи распадаются, в Слове остается одно лишь вертикальное измерение, оно уподобляется опоре, колонне, глубоко погруженной в нерасторжимую почву смыслов, смысловых рефлексов и отголосков: такое слово похоже на выпрямившийся во весь рост знак. Поэтическое слово превращается в акт, лишенный ближайшего прошлого и окружающего контекста, но зато в нем сгущена память обо всех породивших его корнях. Под каждым Словом современной поэзии залегают своего рода геологические пласты экзистенциальности, целиком содержащие все нерасторжимое богатство Имени, а не его выборочные значения — как в прозе или в классической поэзии. Отныне ни одно Слово уже не задано наперед в силу одной лишь общей целенаправленности социализированного дискурса. Потребитель поэзии, лишившись путеводных нитей в мире избирательных реляционных связей, сталкивается со Словом лицом к лицу, оно вырастает перед ним как некая абсолютная величина со всеми скрытыми в ней возможностями. Такое Слово энциклопедично, оно разом содержит в себе все свои значения, тогда как реляционный дискурс заставляет его выбирать одно из них. Оно, следовательно, осуществляет то, что возможно лишь в словаре или в поэзии, то есть там, где имя способно жить независимо от артикля, где оно приведено к своего рода нулевой степени и чревато всеми своими прошлыми и будущими конкретизациями. Такое слово выступает в своей родовой, категориальной форме. Вот почему каждое поэтическое слово — это всегда неожиданность, это ящик Пандоры, из которого выскальзывают все потенциальные возможности языка; подобное слово творят и вкушают с особым любопытством, как священное лакомство. Этот голод по Слову, которым томится вся современная Поэзия, придает поэтической речи устрашающий, нечеловеческий облик. Зияющие темнотой провалы чередуются в ней со вспышками света, недомолвки соседствуют с перенасыщенными смыслом знаками; в такой поэзии отсутствует устойчивая, предсказуемая целенаправленность, и благодаря этому она настолько противостоит социальной функции языка, что уже само употребление речи, распавшейся на отдельные слова, открывает дорогу любым значениям возможных миров.
Что значит рациональное устройство классического языка, как не то, что сама Природа представлялась в ту эпоху единой и постижимой, что в ней не было ничего невыразившегося или неясного, что она до конца укладывалась в категории языка? Классический язык всегда сводился к своей убеждающей функции, он домогался диалога, он создавал мир, где люди не были одиноки, где над словом не тяготел чудовищный груз вещей, где всякая речь оказывалась формой встречи с другим человеком. Классический язык нес в себе ощущение блаженной безопасности, потому что его природа была непосредственно социальной. Не было ни одного классического жанра, ни одного классического текста, который не предполагал бы коллективного потребления, происходящего как бы в атмосфере общения и беседы. Классическое искусство литературы было объектом, циркулировавшим между лицами, принадлежавшими к одному классу, оно было продуктом, предназначенным для устной передачи и для потребления, регулируемого обстоятельствами светского общения: вопреки своей строгой кодификации, классический язык, по самому своему существу, был языком разговорным.
Напротив, современная поэзия, как мы видели, разрушает реляционные связи языка и превращает дискурс в совокупность Остановленных в движении слов. А это означает переворот в пони-Мании Природы. Распад нового поэтического языка на отдельные слова влечет за собой разложение Природы на изолированные элементы, так что Природа начинает открываться только отдельными кусками. Когда языковые функции отступают на задний план, погружая во мрак все связующие отношения действительности, тогда па почетное место выдвигается объект как таковой: современная поэзия — это объективная поэзия. Природа здесь превращается в разорванную совокупность одиноких и зловещих предметов, ибо связи между ними имеют лишь потенциальный характер; никто не подбирает для этих предметов привилегированного смысла, не подыскивает им употребления или использования, не устанавливает среди них иерархических отношений, никто не наделяет их значением, свойственным мыслительному акту или практике человека, а значит, в конечном счете, и не наделяет человеческой теплотой. Ослепительная вспышка поэтического слова утверждает объект как абсолют; Природа превращается в последовательность вертикальных линий, а предметы со всеми своими возможностями вдруг поднимаются в рост: как одинокие вехи высятся они в опустошенном и потому жутком мире. Эти слова-объекты, лишенные всяких связей, но наделенные неистовой взрывчатой силой, слова, сотрясаемые чисто механической дрожью, которая таинственным образом передается соседнему слову, но тут же и глохнет, — эти поэтические слова не признают человека: наша современность не знает понятия поэтического гуманизма: эта вздыбившаяся речь способна наводить только ужас, ибо ее цель не в том, чтобы связать человека с другими людьми, а в том, чтобы явить ему самые обесчеловеченные образы Природы — в виде небес, ада, святости, детства, безумия, наготы материального мира и.т.п.
С этого момента становится затруднительным говорить о существовании поэтического письма, поскольку дело идет о таком языке, чье неистовое стремление к обособленности разрушает любую возможную этическую установку. Словесный жест как воплощенный демиург стремится здесь изменить самый лик Природы; он не выражает нравственной позиции, но оказывается актом принуждения. Таков по крайней мере язык тех современных поэтов, которые доводят свой замысел до логического конца и приемлют Поэзию не как интеллектуальное упражнение, выражение своего душевного состояния или точки зрения на мир, а как воплощение мечты о торжестве невиданного по своей свежести языка. Применительно к этим поэтам столь же бесполезно говорить о письме, как и о поэтическом чувстве. Современная Поэзия в ее наиболее чистых проявлениях — например, поэзия Рене Шара — лишена той многозначительности тона, того ореола изысканности, которые, действительно, создают поэтическое письмо и которые принято называть поэтическим чувством. Ничто не мешает говорить о поэтическом письме применительно к классикам и их эпигонам или даже применительно к поэтической прозе и духе «Яств земных» А. Жида, где Пoэзия поистине является известной языковой этикой. В обоих случаях письмо растворяет в себе стиль. Можно вообразить, как нелегко было людям XVII столетия установить отчетливую, и в первую очередь — поэтическую, разницу между Расином и Прадоном, подобно тому как нынешнему читателю столь же трудно судить о тех современных поэтах, которые пользуются одним и тем же — однообразным и расплывчатым — письмом, ибо Поэзия для них — это своеобразная атмосфера, а именно, по самому своему существу, некое условное использование языка. Однако с того момента, как поэтический язык решительно пересматривает саму Природу — причем делает это в силу одних только особенностей своей структуры, не принимая во внимание содержания дискурса и не задерживаясь на его идеологической роли, — с этого момента письмо перестает существовать; остаются одни только стили; именно они позволяют человеку решительно повернуться лицом к объективному миру, не заслоненному образами, которые создаются в ходе Истории и социального общения.