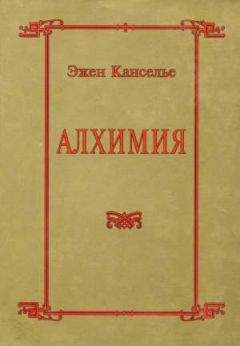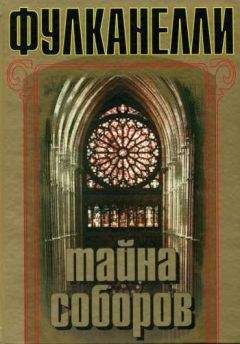Ролан Барт - Нулевая степень письма

Обзор книги Ролан Барт - Нулевая степень письма
НУЛЕВАЯ СТЕПЕНЬ ПИСЬМА
Ролан Барт
Перевод Георгия Косикова
ВВЕДЕНИЕ
Эбер не начинал ни одного номера своего «Папаши Дюшена» без какого-нибудь ругательства вроде «черт подери» или еще похлеще. Эти забористые словечки ничего не значили, зато служили опознавательным знаком. Знаком чего? Всей существовавшей тогда революционной ситуации. Перед нами пример письма, функция которого не только в том, чтобы сообщить или выразить нечто, но и в том, чтобы утвердить сверхъязыковую реальность — Историю и наше участие в ней.
Всякое писанное слово отмечено подобным ярлыком, и то, что верно по отношению к «Папаше Дюшену», верно и по отношению к Литературе. В ней тоже должен быть опознавательный знак чего-то, что отлично от ее содержания и конкретной формы, и это «что-то» — ее замкнутость, благодаря которой она, собственно, и заявляет о себе как о Литературе. Отсюда — совокупность знаков, существующих вне связи с конкретными идеями, языком или стилем и призванных обнаружить изоляцию этого ритуального слова среди плотной массы всех остальных возможных способов выражения. Этот обрядовый статус письменных знаков утверждает Литературу как особый институт и откровенно стремится отвлечь ее от Истории, ибо любая замкнутость обряда не обходится без представления о вечной неизменности. Однако именно тогда, когда Историю отвергают, она действует наиболее открыто; вот почему можно проследить историю литературного слова, которая не будет ни историей языка, ни историей стилей, но лишь историей знаков Литературности. Можно даже предположить, что такая история формы по-своему, но с достаточной ясностью, сумеет обнаружить свою связь с глубинной Историей.
Дело, разумеется, идет о такой связи, формы которой способны меняться вместе с самой Историей. Нет никакой необходимости прибегать к идее прямого детерминизма, чтобы почувствовать влияние Истории на судьбу различных видов письма: движение некоего функционального фронта, вовлекающего события, ситуации и идеи в поток исторического времени, предопределяет не столько последствия, сколько границы совершаемого выбора. История предстает перед писателем с предложением обязательного выбора между несколькими языковыми моралями; она понуждает его означить Литературу исходя из наличных возможностей, над которыми он не властен. Так, мы увидим, что идеологическое единство буржуазии привело к возникновению единого письма и что в буржуазную (то есть классическую и романтическую) эпоху форма не могла разрываться между несколькими возможностями, потому что разорванным не было само сознание писателя. Напротив, с того момента (1850 г.), как писатель перестал быть выразителем универсальной истины и превратился в носителя несчастного сознания, его первым актом стал выбор формы: он принимает на себя обязательство, ангажируется, приемля либо отвергая письмо, принадлежащее его прошлому. Так вдребезги разлетелось классическое письмо, и вся Литература — от Флобера до наших дней — превратилась в одну сплошную проблематику слова.
Именно в этот момент Литература (само слово возникло немногим ранее) бесповоротно стала объектом рефлексии. Классическое искусство неспособно было ощутить себя в качестве языка, ибо оно само было языком, то есть чем-то прозрачным, находящимся в безостановочном перетекании без осадка, — способом идеального слияния универсального разума и декоративных знаков, не обладавших собственной плотью и не обязывавших ни к какой ответственности; этот язык был замкнут в себе самом в силу социальных, а отнюдь не естественных причин. Известно, что к концу восемнадцатого века эта прозрачность была замутнена; литературная форма развила в себе дополнительную силу, не связанную ни с ее строением, ни с ее благозвучием; она начинает очаровывать, смущать, околдовывать; она обретает весомость; Литературу воспринимают отныне не в качестве социально привилегированного способа обобщения, но в качестве оплотненного, углубленного слова, исполненного таинственности, ее ощущают как грезу и как угрозу одновременно.
Отсюда следствие: литературная форма как объект обрела возможность вызывать к себе экзистенциальные ощущения, сопряженные с глубинной сущностью всякого объекта: ощущение чуждости, родственности, отвращения, приязни, обыкновенности, ненависти. Вот почему уже в течение ста лет всякое письмо является попыткой приручить или отвергнуть ту Форму-Объект, с которой писатель неизбежно встречается на своем пути, в которую ему надлежит всматриваться, приходить с ней в столкновение или примиряться и которую он не может разрушить, не разрушив самого себя как писателя. Форма маячит перед его взором как объект; что с ней ни делай — она вызывает скандал: если форма блестяща, то кажется устаревшей, если анархична — то становится антиобщественной, если необычна для своего времени и своих современников — превращается в воплощенное одиночество.
Весь девятнадцатый век был свидетелем этого драматического процесса отвердения формы. У Шатобриана это еще лишь незначительное отложение, почти невесомый груз языковой эйфории, своего рода нарциссизм, когда письмо еще только едва заметно отвлеклось от своего инструментального назначения и принялось вглядываться в свой собственный лик. Флобер (мы указываем здесь лишь на наиболее характерные моменты названного процесса), создавший рабочую стоимость письма, окончательно превратил Литературу в объект: форма стала конечным продуктом «производства», подобно горшку или ювелирному изделию (это значит, что сам акт производства был «означен», иными словами, впервые превращен в зрелище и внедрен в сознание зрителей). И наконец, этот процесс конструирования Литературы-Объекта Малларме увенчал последним актом, завершающим всякую объективацию, — убийством: известно, что все усилия Малларме были направлены на разрушение слова, как бы трупом которого должна была стать Литература.
Таким образом, письмо пережило все этапы постепенного отвердевания; сделавшись сначала объектом разглядывания, затем производства и, наконец, убийства, ныне оно пришло к конечной точке своей метаморфозы — к исчезновению: в тех нейтральных типах письма, которые мы назовем здесь «нулевой степенью письма», нетрудно различить, с одной стороны, порыв к отрицанию, а с другой — бессилие осуществить его на практике, словно Литература, которая вот уже в течение столетия пытается превратить свой лик в форму, лишенную всяких черт наследственности, обретает таким путем большую чистоту, чем та, которую способно ей придать отсутствие всяких знаков, позволяя наконец сбыться орфеевой мечте: появлению писателя без Литературы. Белое письмо, например письмо Камю, Бланшо, Кейроля, или же разговорное письмо Кено — это последний эпизод Страстей письма, шаг за шагом сопровождающих процесс раскола буржуазного сознания.
Мы хотим здесь наметить эту связь, а также обосновать наличие некоего формального образования, не зависящего ни от языка, ни от стиля; мы намереваемся показать, что это третье измерение Формы также — хотя и не без доли трагизма — связывает писателя с обществом; мы собираемся подчеркнуть, наконец, что не бывает Литературы помимо языковой морали. Объем настоящей работы (страницы из которой публиковались в газете «Комба» в 1947 и в 1950 годах) ясно показывает, что речь идет лишь о Введении в книгу, которая могла бы стать Историей Письма.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I. Что такое письмо?
Известно, что язык представляет собой совокупность предписаний и навыков, общих для всех писателей одной эпохи. Это значит, что язык, подобно некой природе, насквозь пронизывает слово писателя, хотя при этом не придает ему никакой формы и даже никак его не питает: он похож на абстрактный круг расхожих истин; лишь за его пределами начинает сгущаться своеобычность одинокого писательского слова. Язык окружает всю сферу литературы примерно так же, как линия, у которой сходятся небо и земля, очерчивает пределы привычного для человека мира. Язык — это не столько запас материала, сколько горизонт, то есть одновременно территория и ее границы, одним словом, пространство языковой вотчины, где можно чувствовать себя уверенно. Писатель в буквальном смысле ничего не черпает в языке; скорее, язык для него подобен черте, переход через которую откроет, быть может, надприродные свойства слова; язык — это площадка, заранее подготовленная для действия, ограничение и одновременно открытие диапазона возможностей. Язык — это не та сфера, где человек принимает на себя социальные обязательства, это лишь рефлекс, не ведающий выбора, нераздельная собственность всех людей, а не одних только писателей; он не участвует в обрядовом действе Словесности; социальным объектом он является по своей природе, а не в результате человеческого выбора. Ни одному писателю не дано беспрепятственно привнести свою свободу в этот непроницаемый язык, ибо на нем держится вся История — непрерывная и единая подобно природе. Вот почему язык для писателя — это всего лишь человеческий горизонт, где в отдалении вырисовывается возможность близости, определяемой к тому же совершенно негативно: сказать, что Камю и Кено говорят на одном и том же языке,— значит всего лишь посредством операции различения напомнить обо всех языках прошлого или будущего, на которых они не говорят: занимая промежуточное положение между уже исчезнувшими и еще неведомыми формами, язык писателя являет собой не столько почву, сколько крайний предел; это геометрическая граница, за которой он не может сказать ничего, не утратив при этом, подобно обернувшемуся Орфею, устойчивого смысла своего речевого поступка и главного признака своей принадлежности к обществу.