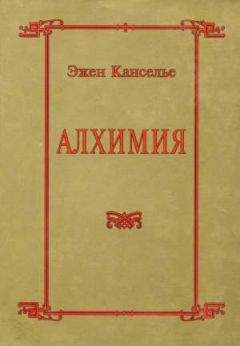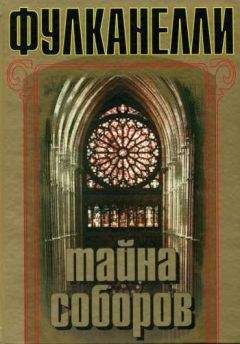Ролан Барт - Нулевая степень письма
Поэтому вряд ли стоит удивляться, что Революция не внесла никаких перемен в буржуазное письмо и что разница между письмом Фелелона и письмом Мериме совершенно ничтожна. Дело в том, что сама буржуазная идеология просуществовала, не зная малейших трещин, вплоть до 1848 года; и менее всего она была поколеблена в период Революции, которая дала в руки буржуазии политическую и социальную власть, но отнюдь не власть интеллектуальную, ибо последней она владела уже давным-давно. От Лакло и до Стендаля буржуазное письмо — если не считать недолгого периода смуты — непрестанно возобновляло и продлевало свое существование. Что же касается революции романтизма, номинально претендовавшей на переворот в области формы, то она весьма благоразумно позаботилась о том, чтобы сохранить в неприкосновенности письмо, воплощавшее ее собственную идеологию. Смешав жанры и стили и тем самым сбросив излишний груз традиции, романтизм сумел сохранить главное в классическом письме — его инструментальность; правда, этот инструмент становился слишком уж «заметным» (в частности, у Шатобриана), но все же его продолжали скромно использовать, оставаясь в полном неведении относительно того, что возможно личное, погруженное в одиночество слово. Один только Гюго сумел извлечь из непроницаемо плотных временных и пространственных измерений языка совершенно неповторимую тематику слова, которую невозможно уяснить в свете традиционной перспективы, но лишь в связи с изумляющими глубинами его собственной экзистенции. Один только Гюго, обрушившись на классическое письмо всей тяжестью своего стиля, сумел подмять его и поставить на грань уничтожения. Вот почему всякое пренебрежение к Гюго свидетельствует о том, что перед нами все та же мифология формы, под сенью которой продолжает скрываться письмо XVIII века — свидетель пышных празднеств буржуазии, и поныне все еще диктующее нормы добротного французского языка — языка замкнутого, изолированного от общества благодаря самой плотности литературного мифа. Это священное письмо, которое без разбора продолжают использовать самые различные писатели — то как свод непреложных законов, то как источник гурманских удовольствии, подобно сокровищнице, где хранится таинственная, чудесная святыня, имя которой — Французская Литература.
Примерно около 1850 года произошли и совпали три новых великих исторических события: демографический взрыв в Европе; переход от текстильной промышленности к металлургической индустрии, ознаменовавший рождение современного капитализма, и, наконец, последовавший за июньскими днями 1848 года раскол французского общества на три враждующих класса, иными словами — бесповоротное крушение всех либеральных иллюзий. Эти обстоятельства поставили буржуазию в новое историческое положение. До той поры мерой и неоспоримым воплощением всякой универсальности продолжала оставаться сама буржуазная идеология; буржуазный писатель, являясь единственным судьей всех человеческих бед, не встречая на своем пути ни одного человека, который мог бы со стороны взглянуть на него самого, не испытывал никакого разлада между своим социальным положением и своим интеллектуальным призванием. Теперь же эта идеология превратилась в одну из многих возможных; универсальность ускользнула от нее; преодолеть сама себя она может отныне лишь путем самоосуждения. Писатель становится жертвой раздвоения, ибо появляется зазор между его сознанием и его социальной судьбой. Так рождается трагедия Литературы.
С этого-то момента и начинают множиться различные виды письма. Отныне выбор любого из них — изысканного, популистского, нейтрального, разговорного — превращается в основополагающий акт, посредством которого писатель принимает или отвергает свое буржуазное положение. Каждое из них оказывается попыткой разрешить орфееву проблему Современной Формы — проблему писателей без Литературы. Вот уже в течение ста лет такие писатели, как Флобер, Малларме, Рембо, Гонкуры, сюрреалисты, Кено, Сартр, Бланшо или Камю, пытались наметить пути интеграции, разрушения или восстановления в правах литературного языка; однако ставкой здесь служат не приключения формы, не успех риторики или смелое обновление и изыски словаря. Всякий раз, когда писатель запечатлевает на бумаге ту или иную последовательность слов, под вопросом оказывается само существование Литературы; что наша современность позволяет разглядеть в присущей ей множественности типов письма, так это тупик ее собственной Истории.
II. Стиль как ремесло
«"Форма стоит дорого", - ответил Валери, когда его спросили, почему он не публикует лекций, читанных им и Коллеж дс Франс. Между тем па протяжении целой эпохи эпохи триумфа буржуазного письма — цепа формы почти что равнялась цене воплощенной в ней мысли; разумеется, в те времена тоже заботились о композиции формы, о ее благозвучии, и тем не менее форма была довольно-таки дешева, ибо писатель пользовался ею как готовым инструментом, механизмы которого, не подвергаясь искусу обновления, передавались от поколения к поколению в полной неприкосновенности; у формы не было хозяина; универсальность классического языка проистекала именно из того, что язык этот являлся всеобщим достоянием, а различалось только мышление писателей. Можно сказать, что на протяжении всего этого периода форма имела лишь потребительную стоимость.
Однако, как мы уже знаем, примерно к 1850 году Литература очутилась перед необходимостью оправдать собственное существование: письмо принялось подыскивать себе различные алиби; и как раз потому, что письма коснулась тень подозрения, возникла целая группа писателей, которые попытались взять на себя ответственность за продолжение литературной традиции, поставив на место потребительной стоимости письма стоимость вложенного в него труда. Они решили спасти письмо не ради его предназначения, а ради труда, которого оно стоило. Тогда-то и начал складываться образ писателя-работника, запирающегося в своей легендарной башне, подобно ремесленнику в мастерской, и принимающегося отделывать, шлифовать, полировать, оправлять форму совершенно так же, как ювелир превращает данный ему материал в произведение искусства. Изо дня в день, в полном одиночестве проводит он за этим занятием долгие часы, наполненные упорным трудом: такие писатели как Готье (пишущий на paссвете у себя в спальне), Жид (удобно устроившийся за своей конторкой), образуют своего рода ремесленный цех во Французской Словесности, где сама работа над формой есть знак принадлежности к корпорации. Стоимость труда, вложенного в произведение, отчасти заменяет ценность воплощенного в нем гения; в словах писателей, хвастающих своей долгой и трудной работой над формой, проглядывает известное кокетство; иногда даже саму лаконичность стиля (ведь обработать материал как раз и значит устранить в нем все лишнее) начинают воспринимать как признак тонкой изощренности, которая, однако, существенно разнится от изощренности времен великой эпохи барокко (у Корнеля, например). Барочная прециозность возникала из необходимости познать Природу, а это требовало широчайшего использования всех ресурсов языка; изыск же новых писателей направлен на выработку аристократического литературного стиля и свидетельствует об историческом кризисе, разразившемся тогда, когда обнаружилось, что для оправдания условности устаревшего литературного языка уже недостаточно одних только эстетических доводов, иными словами, когда движение Истории привело к очевидному разладу между социальным призванием писателя и инструментом, доставшимся ему из арсенала Традиции.
С наибольшей последовательностью обосновал это ремесленническое письмо Флобер. До него буржуазную повседневность принято было воспринимать как нечто курьезное или экзотическое; в силу того, что буржуазная идеология сама себя полагала мерой универсальности, она утверждала существование идеальной человеческой природы и потому могла позволить себе в блаженной безмятежности созерцать поведение конкретного буржуа как зрелище, не имеющее никакого отношения к ее собственным принципам. Флоберу же самый дух буржуазности представлялся неизлечимым недугом, который вселяется в писателя и поддается лечению только тогда, когда писатель с полной ясностью отдает себе в нем отчет; а это уже — признак трагического мироощущения. Столкновение лицом к лицу с буржуазной Необходимостью, подчиняющей себе Фредерика Моро, Эмму Бовари, Бувара и Пекюше, потребовало искусства, также пронизанного необходимостью и вооруженного собственным Законом. Флобер создал нормативное письмо, патетичность которого — и в этом заключен парадокс — создается сугубо техническими средствами. С одной стороны, он строит свое повествование как последовательное выявление различных сущностей, а не в феноменологическом порядке их явления (в отличие от Пруста); глагольные времена он употребляет в соответствии с условными нормами, так что они выступают как знаки Литературности, по примеру того самого искусства, которое все время предупреждает о своей искусности и искусственности; он создает особый, письменный ритм, обладающий завораживающей силой и, в отличие от устного красноречия, затрагивающий шестое, сугубо литературное чувство создателей и потребителей Литературы. С другой стороны, эта кодификация литературного труда, совокупность упражнений по выработке письма является, если угодно, проявлением некоей мудрости, но также и грустного чистосердечия, ибо искусство Флобера шествует, указывая пальцем на свою собственную маску. Эта григорианская кодификация литературного языка имела целью если и не примирить писателя со всеобщим порядком вещей, то по крайней мере возложить на него ответственность за создаваемую им форму; превратить письмо, полученное им от Истории, в искусство, то есть в откровенную условность, в честный договор, позволяющий личности найти удобное место посреди чуждой для него природы. Писатель предлагает обществу искусство, не скрывающее своей искусности, выставляет на всеобщее обозрение его нормы, а взамен общество соглашается принять писателя в свое лоно. Так случилось с Бодлером, который попытался освятить восхитительный прозаизм своей поэзии авторитетом Готье, словно авторитетом самого божества обработанной формы; разумеется, эта обработанное не имела ничего общего с прагматизмом, свойственным буржуазной практике, и тем не менее она вписывалась в представление о повседневном труде, подпадала под контроль общества, усматривавшего в такой работе не столько идеал, к которому оно стремилось, сколько воплощение технических приемов своей деятельности. Коль скоро Литературу невозможно было победить изнутри, не лучше ли было признать ее открыто, приговорив писателя к литературной каторге, где он станет «трудиться на совесть»? Вот почему флоберизация письма оказалась неизбежным выкупом как для самых невзыскательных писателей, плативших его без размышлений, так и для наиболее требовательных из них, признававших тем самым безвыходность сложившегося положения вещей.