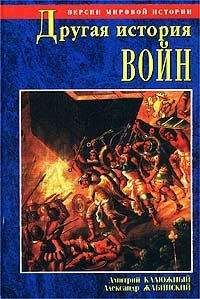Г. Богемский - Кино Италии. Неореализм
«Чувство» не является фильмом о Рисорджименто, но оно подводит к множеству отгадок и критических размышлений по поводу Рисорджименто. Это исторический кинороман, а не «портрет эпохи», как не портретами эпохи, но романами являются «Война и мир» или «Анна Каренина», и «Кустоца» в этом последнем фильме Висконти, так же как и «Скачки» в «Анне Карениной», является не случайным эпизодом, но коренным моментом великой драмы (рассказанной с точки зрения ее участника): она намечает поворот во всей совокупности сюжетных линий, устанавливает необходимую диалектическую связь между персонажами и теми обстоятельствами и событиями, в которых они действуют или из-за которых страдают. Это тем более верно, что мы не можем убрать «Кустоцу», не обеднив весь фильм, тогда как, например, из «Джульетты и Ромео» Кастеллани, напротив, можно изъять великолепные похороны, поскольку они здесь элемент случайный, несущественный, и именно потому, что Кастеллани описывает, рисует картины, а не рассказывает, наблюдает, а не участвует. Различие между «Чувством» и «Джульеттой и Ромео» следует искать не в разном качестве вкуса (хороший — в первом, плохой — во втором) — такое сравнение даже в рамках, предложенных Кьярини, оказывается несостоятельным. Несостоятельным оказывается и другое сравнение — смерти священника в «Риме — открытом городе» и смерти Малера. Миры, в которых живут и к которым принадлежат эти два персонажа, первый — Росселлини, второй — Висконти, различны по времени и пространству. Малер не мог не умереть именно как лицо, принадлежащее к «миру, пережившему период своего блеска» (блеска в том числе и внешнего, «упадочного»), к миру, который в этом внешнем, упадочном блеске запечатлен на «прекрасном полотне» (если допустить, что это художественное полотно), где так гармонично и геометрически стройно расположены люди, осознавшие свою обреченность, и те, кто, еще не поняв своего конца, собираются их расстреливать. То обстоятельство, что перед нами — «прекрасное полотно», вовсе не ослабляет глубокого смысла, которым навеяна эта картина, напротив, только подчеркивает этот смысл, поскольку все, что в ней есть декадентского, каллиграфического, литературного, принадлежит не фильму, а его персонажам.
Как раз потому, что Висконти рассказывает о мире непохожем на мир «Рима — открытого города», он и обращается не к мелодраме, а к опере и некоторые элементы своего повествовательного стиля ищет и находит у Верди и в то же время у Брукнера*. И это не является недостатком Висконти, в любом случае не является недостатком фильма «Чувство», как не является им отсутствие эмоциональной чувствительности (но разве волнует в этом смысле «Война и мир»?). Дело не в том — или не только в том, — что место «персонажей отживших, условных повествований» должен занять «документализм». Эту проблему нельзя решать и так, как хотелось бы Кьярини, проводя опасное и произвольное разграничение между «фильмом» и «зрелищем», с вытекающей отсюда шкалой ценностей: больше художественных достоинств, — значит, «фильм», меньше достоинств (и даже не достоинств,
* Болезненной возбудимости Брукнера3 противостоит вердианское воодушевление. Именно воодушевление позволяет Висконти в начале (эпизод исполнения «Трубадура» в театре «Ла Фениче») представить главные тенденции и главных персонажей этой великой исторической драмы, когда он сразу же погружает нас в самую гущу событий.
а чего-то вроде) — «зрелище». Кьярини прекрасно знает, что не существует ни явлений «в чистом виде», ни явлений абсолютно независимых, как не существует абсолютных границ между разными видами искусства, между стилем и техническими приемами отдельных произведений. История искусства богата не только примерами чистой эволюции но и «смешанными» произведениями, а эволюция как раз и предполагает «смешение», как это было, например, на пути от дифирамба к рождению трагедии. Руководствуясь принципом разграничения, предлагаемым Кьярини, мы должны были бы признать немало недостатков у Чаплина. Сам Кроче не избежал этой ошибки, когда отверг «Обрученных», обнаружив в них «нечто вроде сплава» поэзии и красноречия, но сумел исправить ее до того, как умер. Если так уж нужно разграничивать независимые явления, так давайте хотя бы не будем оперировать шкалой ценностей.
Когда, разграничивая «фильм» и «зрелище», выделяют, как это делает Кьярини, некий отличительный, специфический (или такой, который считают отличительным и специфическим) элемент и утверждают, что «зрелище» устарело (как роман и театр), а «фильм» — это нечто совершенно новое, особое, то не принимают в расчет «живую диалектику борьбы между старым и новым во всем многообразии ее переходных форм» и всегда, как это произошло и с «Чувством», приходят к тому, что пренебрегают существенной, исторически решающей новизной, а чисто внешние, технические или психологические особенности, наоборот, воздвигают на место центральных категорий. Приходят к тому, что забывают и отвергают прошлое, все прошлое, тогда как новое следует искать и в этом прошлом, то есть в той позиции (новой), которую мы по отношению к нему занимаем. Как для Грамши вернуться к Де Санктису (или к Бальзаку) означало не механически вернуться к тем взглядам, которые де Санктис излагал по поводу искусства и литературы, но занять по отношению к искусству и жизни позицию, подобную той, которую в свое время занимал Де Санктис.
Вот и Висконти, как, впрочем, мы уже говорили, не просто механически возвращается назад к традиционному уровню «зрелища», чтобы вступить в «явное противоречие с неореализмом», способствовать не «развитию и углублению неореализма, а его отрицанию». Висконти пред лагает новое отношение к роману XIX столетия и к опере. Ведь «документализм» не исчерпывает всех возможностей завоевания нового взгляда на мир.
Означает ли весь этот разговор, что мы призываем к отвлеченному предпочтению содержания форме? К тому, чтобы, оставаясь безразличными к форме, судить о фильме по его сюжету, оценивать его с точки зрения «литературных моделей» (наличия персонажей, положительных героев) и упускать подлинное содержание, непременно связанное со способами выражения. Совершенно очевидно, что критика, основанная на отвлеченном предпочтении содержания форме, оставаясь безразличной к форме, исходит в своих оценках из достоинств сюжета, но столь же очевидно, что нельзя оценить достоинств сюжета, абстрагируясь от формы (если только под сюжетом не понимать голую интригу, фабулу). Обвинение в принадлежности к такой критике — это обвинение такого рода, которое легко опровергнуть, но в любом случае уж лучше так называемые вульгарные социологи, чем абстрактные формалисты. Быть может, восхищение журнала «Чинема нуово» оказалось чрезмерным, быть может, он слишком много ссылался на классиков, но эти ссылки не следует понимать как сравнения: когда, например, в нашей редакционной статье упоминались Шекспир и Гольдони, мы, конечно, не собирались тем самым поставить Висконти на тот же уровень, но просто хотели поднять один интересный вопрос, а именно: в чем такое явление, как «Чувство» (произведение искусства, имевшее успех у широкой публики), аналогично (аналогично, а не равно) таким явлениям, как Шекспир и Гольдони?
Мы не воображаем, что нам удалось склонить Луиджи Кьярини на свою сторону, но в любом случае убеждены, что битву за реализм (и неореализм) нельзя выиграть при помощи того разграничения, которое предложил он*.
Перевод Н. Новиковой
* Подобным замечанием мы ответили, пусть не прямо, и Чезаре Дзаваттини (см. «Дневник» в нашем прошлом номере), однако при первом же удобном случае мы намерены ответить ему и более непосредственно.
4. Подводя итоги
Витторио Де Сика. Письмо к Чезаре Дзаваттини
Дорогой Дзаваттини, ты должен извиниться за меня перед друзьями из Римского киноклуба за то, что я не участвую в ваших дебатах, на которые вы меня приглашаете с такой любовью и настойчивостью. Ты знаешь, что дело не в моем нежелании, а прежде всего в том, что я не теоретик и поэтому чуть ли не боюсь теоретических дискуссий, хотя и признаю их решающе важное значение, а кроме того, в том, что у меня не было и сейчас нет времени из-за нашего замечательного ремесла, которое не дает отпусков. Однако я слежу как могу за культурной деятельностью киноклуба по рассказам некоторых коллег и читая ваши бюллетени и считаю, что также и деятельность нашего киноклуба представляет собой один из добрых и конкретных признаков того, что наше кино живо — то итальянское кино, с которым кое-кто хотел бы покончить, притом как раз сейчас, когда оно представляет убедительнейшие доказательства собственного существования как своими поисками, так и тем, что выражает свое недовольство, и даже тем, что совершает ошибки. Разумеется, не все мы придерживаемся одинакового мнения по поводу того, как должно развиваться итальянское кино; в самом деле, даже относительно неореализма не у всех нас были одинаковые идеи и одинаковые чувства, но нет никакого сомнения, что нас объединяет одинаковое стремление расширить, углубить те темы, что ставит перед нами жизнь нашего народа, а также и те, что предлагает нам его литература, ибо литература — лучшее выражение народа.