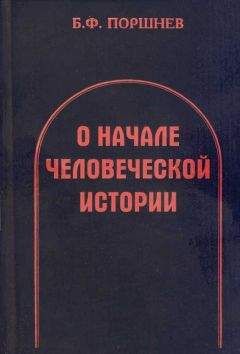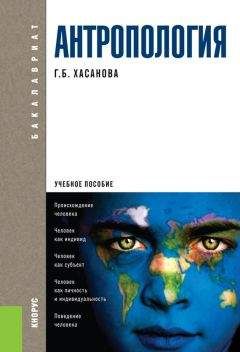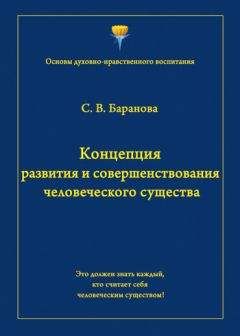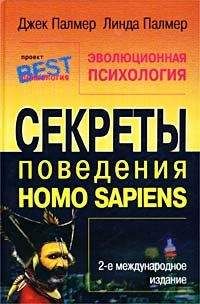Борис Марков - Культура повседневности: учебное пособие
Классическая коммуникативная система, основанная на письменности, пользовалась языком как знаками, сила и степень воздействия которых на поведение людей определяется не внешней формой, а внутренним значением. Оно отсылает к объективному положению дел, к истине, уясняя которую люди строят планы своего поведения. Современные масс-медиа опираются на аудиовизуальные знаки, которые ни к чему не отсылают, а обладают прямым, так сказать, «магнетопатическим» воздействием и буквально гипнотизируют, завораживают людей. При этом нет речи о рефлексии по поводу их смысла и значения. Это кажется концом не только книжной культуры, но и культуры вообще, включая философию. Можно понять уныние интеллектуалов и их ненависть к разного рода «имиджмейкерам», которые добиваются успеха, не прибегая к аргументации и обоснованию. На самом деле речь должна идти о трансформации философии в эпоху масс-медиа. Ее основной темой должна стать аналитика звуков, образов и иных медиумов повседневной коммуникации, которые эксплуатируются в новых технологиях, основанных на использовании телеэкрана и компьютера.
Иконический знак, по Ч. Пирсу, обладает натуральным сходством с объектом. Ч. Моррис определял его как такой знак, который несет в себе некоторые свойства представляемого объекта, обладает свойствами собственных денотатов. Если рассматривать качественную фотографию, рекламирующую пиво, то на ней запотевшее стекло стакана, пена и капельки янтарной жидкости выглядят даже более живописно и реалистично, чем на самом деле. У. Эко считал, что благодаря рисунку мы воспринимаем пиво, тепло и холод, но не ощущаем их. И тем не менее такой переход достигается, что подтверждает существование определенных кодов, ведущих от восприятия к ощущению. У. Эко писал: «Иконические знаки не обладают свойствами объекта, который они представляют, но скорее воспроизводят некоторые общие условия восприятия, отвергая одни стимулы и отбирая другие, те, что способны сформировать некую структуру восприятия, которая обладала бы – благодаря сложившемуся опытным путем коду – тем же „значением“, что и объект иконического изображения»[73].
«Гиперреалист» П. П. Пазолини утверждал: реальность – это то же самое, что и кино, только природное. Поскольку изначальным языком является человеческое действие, постольку минимальными единицами кинематографического языка являются реальные объекты. Действительно, визуальные стимулы восприятия картины и предмета в принципе одинаковы. Однако между ними есть существенные различия. Я могу провести линию так, что образовавшаяся фигура будет напоминать лошадь. Но этот рисунок, отделяющий фигуру от фона, не воспроизводит огромного количества условий, которые необходимо выполнить, чтобы воспринять конкретную лошадь. Поэтому существуют некие коды узнавания, которые скоординированы с конкретными условиями.
У. Эко подчеркивает отличие семиотического и герменевтического подходов. Романтическая герменевтика определяет «смысл» как нечто имманентно присущее вещи: он прямо вытекает из совокупности означающих, без опосредования кодом. Знаки в этом случае толкуются не как произвольные, а как мотивированные формой вещей, поэтому любое изображение считается укорененным в самой реальности. По мнению У. Эко, визуальные знаки только кажутся естественно мотивированными. У графических и визуальных знаков, так же как и у словесных, нет никаких общих свойств с вещами. Скорее всего, визуальный знак как-то передает соотношение форм восприятия.
По мнению У. Эко, «иконический знак представляет собой модель отношений между графическими феноменами, изоморфную той модели перцептивных отношений, которую мы выстраиваем, когда узнаем или припоминаем какой-то объект»[74]. Иконический знак обладает общими свойствами со структурой восприятия объекта, а не с самим объектом.
Поскольку смысл иконического знака не всегда отчетлив, постольку в большинстве случаев его сопровождает подпись, фиксирующая, навязывающая закрепленный смысл. Графические коды являются конвенциональными, хотя они передают какие-то отношения, свойственные объекту изображения. Солнце изображается кружком с лучами, но это не соответствует научной теории. Если знак и обладает чем-то общим с объектом, то общие черты являются продуктом конвенции. Реалист рисует то, что видит, абстракционист – то, что знает, а публика любит узнаваемое и не ценит знаемое. В основе любого изображения лежит конвенция. График отделяет предмет от фона линией, а акварелист – цветом и светом. Изображение с помощью как линий, так и градаций света и тени – это продукт конвенции. Картины Дж. Констебля, которые сегодня воспринимаются как фотографии, в свое время оценивались как сущий произвол, тем более что сам художник разработал некую «научную» поэтику и выписывал пейзажи с фотографической точностью. Очевидно, что его открытие состояло в изобретении новых способов кодирования нашего восприятия света и передачи его на холсте. Собственно, фотография – это тоже не что иное, как продукт закодированных ожиданий. Изображения, будь то картины или фотографии, – это криптограммы, которые мы понимаем, если подключены к определенной системе кодов.
Кино, состоящее из отдельных кадров, – это как бы своеобразная книга, состоящая из отдельных букв. Музыкальные мелодии письменных обществ также построены как повторяющиеся циклы. Музыка бесписьменных обществ не имеет такой повторяющейся, циклической, абстрактной формы, как мелодия. Как теория восприятия, так и западное искусство, понимаемое как художественное воспроизведение мира, опирается на понятие истины. Следует различать творение и изображение. До Джотто живопись выступала как действительность, а после – как ее отражение. Подобным образом развивались поэзия и проза: в направлении отображения и прямолинейного повествования. Условием этого было вызванное освоением алфавитного письма выделение визуального восприятия из его обычной включенности в аудиотактильное взаимодействие чувств. Происходила редукция «священного» к мирскому, образа – к понятию. Современное визуальное искусство восстает против господства слова. Оно заставляет с подозрением относиться к семиологической трактовке образов как иконических знаков, воздействующих на поведение людей благодаря культурным кодам. Отрицать знаковый характер образов невозможно, однако было бы неверно сводить их к системе конвенциональных значений. Например, М. Фуко видел в «видимом» нечто выходящее за рамки дискурса, нечто опасное для порядка «значений».
Где смысл, там и слово, а слово звучит в речи. Поэтому у И. Г. Гердера ухо рассматривается в семантическом и когнитивном изменении. Язык понимается как игра звучащего мира и слушающего человека. При этом речь идет о способности слышать не только другого человека, но и мир, природу и самого себя. Глаз и рука утрачивают при этом эпистемологический приоритет. Гердер рисует поэтическую идиллию, в которой человек сравнивается с кроткой овечкой, агнцем божьим.
Отоцентрическая концепция языка и познания стала популярной в наше время. Уже А. Гелен опирался в разработке своей антропологии на идеи И. Г. Гердера. М. Хайдеггер тоже считал слух важнейшим условием языка. По его мнению, слушание конституитивно для речи. И как словесное звучание основано на речи, так акустическое восприятие – на слушании. «Прислушивание к… есть экзистенциальная открытость присутствия как событие для других. Слушание конституирует даже первичную и собственную открытость присутствия для его самого своего умения быть в качестве слышания голоса друга, которого всякое присутствие носит с собой. Присутствие слышит, потому что понимает.»[75]
Таким образом, способность слышать звуки является ничуть не менее сложной, чем способность к селекции и интерпретации визуальной информации. Каждый из нас был когда-либо покорен голосом другого. К счастью, такие голоса встречаются редко. Почему же речь обладает столь сильной, возможно, самой сильной властью над человеком? Звучит ли в ней бытие, как полагал М. Хайдеггер, или она резонирует с внутренними вибрациями и ритмами нашего тела, как считал А. Шопенгауэр? А может быть, она напоминает нам о голосе матери, который мы подобно птенцам различаем среди тысячи шумов, ибо от этого зависит наше выживание? Этот голос звал нас наружу, когда мы покоились в плаценте, он приглашал к трапезе, давал утешение и наставлял на героический путь словами колыбельной песни. Звуки родной речи исторгают из нас слезы или смех, потому что мы, как члены одного рода, обладаем некоторыми общими переживаниями. Человеческое существо осознавало себя, уже благодаря детской песне, как существующее во времени, в будущем. Звучание тона, дифирамбический призыв певца-сказителя вызывал в душе слушающего субъекта порыв к тому, чтобы стать таким, как поется в песне. Песни народа обращены к последующим поколениям, это призыв героев к своим потомкам. Благодаря героической песне человек прислушивается к зову бытия и забывает о своем нутре. Чудо устной речи состоит не в том, что она сообщает истину, а в ее суггестивности. Но это не первобытная магия, а, напротив, освобождение от нее.