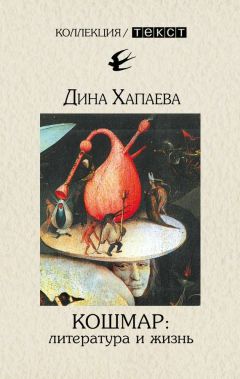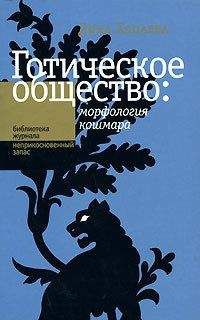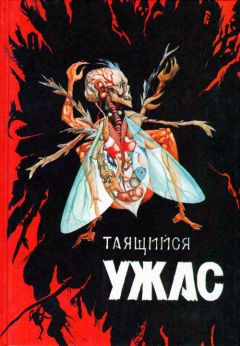Дина Хапаева - Кошмар: литература и жизнь
375
Н.В. Гоголь. Шинель. Гоголь, ПСС, с. 169.
376
Там же, с. 172.
377
Бахтин. Поэтика…, с. 142, 159, 160, 162.
378
Там же, с. 63. «В кругозоре же автора как предмет видения и изображения остается это чистое самосознание в его целом» (Бахтин, Поэтика…, с. 63). «Самосознание, как художественная доминанта в построении образа героя, уже само по себе достаточно, чтобы разложить монологическое единство художественного мира, но при условии, что (…) в самом произведении дана дистанция между героем и автором» (Бахтин, Поэтика…, с. 68). В результате «всепоглощающему сознанию героя автор может противопоставить лишь один объективный мир – мир других равноправных с ним сознаний» (Там же, с. 66).
379
Там же, с. 72. Дальше Бахтин цитирует «Кроткую», где Достоевский прямо говорит про важность сохранения «психологического порядка» переживания. Достоевского волнует не внутренняя речь героя, а его внутренние состояния в их разнообразных проявлениях. Бахтин объясняет это «правдой собственного сознания» (Там же, с. 74).
380
Концепция самосознания породила и другие натяжки, не укрывшиеся от взора его критиков, в числе которых следует в первую очередь вспомнить М. Гаспарова (М. Л. Гаспаров. Бахтин в русской культуре XX в. М. Л. Гаспаров. Избранные труды. М., 1997, а также Лосева (А. Ф. Лосев. Эстетика возрождения. М., 1978, с. 589) и Баткина (Л. М. Баткин. Смех Пантагрюэля и философия культуры. Вопросы философии, 1967, № 12). Анализ критики наследия Бахтина см. в: C. Emerson. Creative Ways of Not Liking Bakhtin (Lydia Ginzburg and Mikhail Gasparov). University of Toronto Press, 2010 (forthcoming). См. также: К. Эмерсон. Двадцать лет спустя. Вопросы литературы, 2006, № 2.
381
Бахтин. Поэтика…, с. 67.
382
Другая версия – не самосознание, а самообман раскрывает Достоевский в своих героях: Ю. Корякин. Достоевский и канун XXI века. М., 1989, с. 69–70.
383
Бахтин. Поэтика…, с. 86–87. Бахтину очень важно, что Достоевский отрицает в записных книжках, что он психолог: «При полном реализме найти в человеке человека… Меня зовут психологом; не правда, я лишь реалист в высшем смысле, т. е. изображаю все глубины души человеческой» (Там же, с. 81), и дальше Бахтин рассуждает, почему Достоевский не любит современных психологов. К этому рассуждению следует добавить, что, во-первых, психология с ее рождающимся научным пафосом не могла не претить писателю своим примитивизмом и грубым материализмом. Во-вторых, возможно, на такой реакции писателя сказались отголоски грубой критики его психологизма Анненковым, воспоминание о которой вполне могло заставить его продолжать обороняться от этой критики.
384
Бахтин. Поэтика…, с. 98. Бахтин сравнивает Достоевского с «Тремя смертями» Толстого.
385
«Чудо, тайна, и власть» – эти три ключа, которые, по словам Великого инквизитора Ивана Карамазова, открывают власть над миром, – не привлекают никакого внимания Бахтина в его книге о Достоевском» (C. Emerson. The First Hundred Years of Mikhail Bakhtin. Princeton U.P., 1997, p. 129).
386
Idem, p. 131–133, 136.
387
Idem, p. 129. О взглядах Достоевского см.: S. McReynolds. Redemption and the Merchant God: Dostoevsky’s Economy of Salvation and Antisemitism. Northwestern U.P., 2008.
388
Emerson op. cit., p. 154.
389
Бахтин. Поэтика…, с. 55.
390
Там же, с. 71.
391
«Это – характерное для жанра мениппеи моральное экспериментирование, не менее характерное и для творчества Достоевского» (Бахтин. Поэтика…, с. 204). «Кроткую» он считал «анакризой с моральными экспериментами» (Там же, с. 207).
392
С этой точки зрения куда более точной выглядит интерпретация Кирпотина, на которую ссылается Бахтин: «как бы прямое видение чужой психики. Он заглядывал в чужую душу, как бы вооруженный оптическим стеклом, позволявшим ему улавливать самые тонкие нюансы, следить за самыми незаметными переливами и переходами внутренней жизни человека» (Там же, с. 51).
393
Там же, с. 205.
394
Там же, с. 203.
395
Если Бахтин и отмечает какую-то своеобразную функцию сна, то только для того, чтобы снова вернуться к идее мениппеи с ее испытанием человека: «Преобладает у Достоевского кризисная вариация сна» (Бахтин. Поэтика…, с. 199). Бахтин рассматривает кошмар как обычный сюжетный ход, который ничего не добавляет к повествованию. Например, так он анализирует кошмар Раскольникова со смеющейся старухой, приснившийся герою накануне убийства процентщицы: «Эта логика сна и позволила здесь сочетать образ смеющейся старухи, сочетать смех со смертью и убийством. Но это же позволяет сделать толпы смеющихся людей, как и амбивалентная логика карнавала.
Перед нами типичное карнавальное сочетание» (Там же, с. 227). Бахтин обращается к Пушкину, чтобы подкрепить свой тезис аналогией с «Пиковой дамой» Пушкина, с обмороком Германа у гроба старой графини. Раз обморок случается на людях, значит, считает Бахтин, и это тоже карнавал «всенародного развенчания» героя, хотя критик сам оговаривается, что «этому всенародному развенчанию (…) нет полного созвучия в «Пиковой даме»…» (Там же, с. 228). Он утверждает: «Сон здесь вводится именно как возможность совсем другой жизни, организованной по другим законам, чем обычная (…) Жизнь, увиденная во сне, отстраняет обычную жизнь, заставляет понять и оценить ее по-новому (в свете иной увиденной возможности). И человек во сне становится другим человеком, раскрывает в себе новые возможности (…), испытывается и проверяется сном. Иногда сон прямо строится как увенчание – развенчание человека и жизни. Т. о. во сне создается невозможная в обычной жизни исключительная ситуация, служащая все той же основной цели мениппеи – испытанию идеи и человека идеи» (Там же, с. 198). Бахтин считал, что такой сон впервые появляется в мениппее.
396
Там же, с. 290.
397
Там же, с. 199.
398
«…беседа Ивана с чертом полна образов космического пространства и времени: «квадриллионами квадриллионов километров» (…) Все эти космические величины здесь перемешаны с элементами ближайшей современности (…) и с комнатно-бытовыми подробностями, – все это органически сочетается в условиях карнавального времени», – считает Бахтин. (Там же, с. 239, прим. 1).
399
Там же, с. 234.
400
«(…) впервые появляется и то, что можно назвать психологическим экспериментированием: изображение необычных, не нормальных морально-психических состояний человека – безумий всякого рода (…) раздвоения личности, необузданной мечтательности, необычных снов, страстей, граничащих с безумием., самоубийств и т. п. Все эти явления имеют в мениппее не узкотематический, а формально-жанровый характер. Сновидения, мечты, безумие разрушают эпическую и трагическую целостность человека и его судьбы: в нем раскрываются возможности иного человека и иной жизни, он утрачивает свою завершенность и однозначность, он перестает совпадать с самим собой. Сновидения обычны и в эпосе, но там они – пророческие, побуждающие или предостерегающие – не выводят человека за пределы его судьбы и его характера, не разрушают его целостности. Конечно, эта незавершенность человека и его несовпадение с самим собой в мениппее носят еще довольно элементарный и зачаточный характер, но они уже открыты и позволяют по-новому увидеть человека. Разрушению целостности и завершенности человека способствует и появляющееся в мениппее диалогическое отношение к самому себе (чреватое раздвоением личности)» (Бахтин, Поэтика…, с. 156). Оставляя в стороне вопрос о том, чем все сказанное относительно пограничных состояний и страстей специфично для мениппеи, а не для греческой трагедии, отметим это редкое место, в котором Бахтин признает, что диалогичность может быть опасна и исполнена не только гуманистического пафоса. Попытка философа, живущего в сталинском кошмаре, создать гуманистическую вселенную, что не может не вызывать уважения. Но выбор Достоевского в качестве материала не был удачен.
401
Там же, с. 157. И все же критик постоянно ощущал активное сопротивление своего материала и старался объясниться по этому поводу с читателем, как, например, вот в этом месте, где ощущение неполного – мягко говоря – соответствия между произведениями Достоевского и концепцией мениппеи Бахтину приходится приписать иронии, которая тоже в конечном счете объявляется чертою жанра: «Можно даже сказать, что жанр мениппеи раскрывает здесь свои лучшие возможности, реализует свой максимум. (…) Достоевский не писал и пародии на жанр, он использовал его по прямому назначению. Однако нужно заметить, что мениппея всегда – в том числе и древнейшая, античная – в какой-то мере пародирует себя самое. Это один из жанровых признаков мениппеи» (Там же, с. 189).
402
Там же, с. 140.
403
Там же, с. 104.
404
«Пародирующие двойни стали довольно частым явлением и карнивализованной литературы. Особенно ярко это выражено у Достоевского, – почти каждый из ведущих героев его романов имеет по нескольку двойников, по-разному его пародирующих – Свидригайлов, Лужин, Лебезятников для Ставрогина – Петр Верховенский, Шатов, Кириллов, для Ивана Карамазова – Смердяков, черт, Ракитин. В каждом из них (то есть из двойников) герой умирает (то есть отрицается), чтобы обновиться (то есть очиститься и подняться над собой)» (Там же, с. 170).