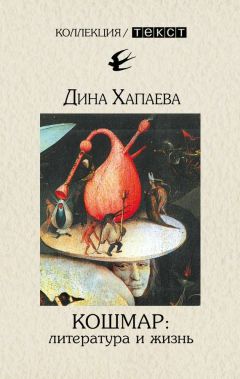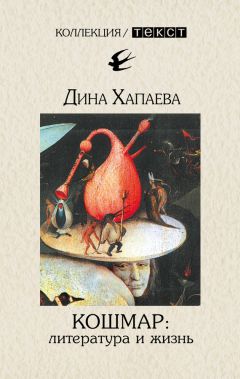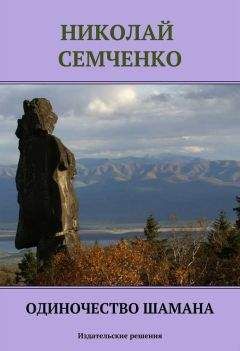Дина Хапаева - Готическое общество: морфология кошмара
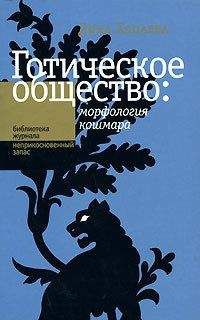
Обзор книги Дина Хапаева - Готическое общество: морфология кошмара
В чистых линиях готических соборов, пронизанных лучезарным светом неугасимых витражей и мудрыми звуками органа, мысль сама собой устремляется ввысь, завороженная величественной стройностью европейской культуры. Как будто ты стоишь в сердцевине прекрасного бутона, в котором уже заложены все грядущие линии и краски его расцвета: Гуманизм, Ренессанс, Просвещение... Отсюда так ясно виден великий путь, отсекающий все лишнее, случайное: постоянное стремление к свету разума, к совершенству и гармонии. Взгляд бережно и покорно следует за возвышающими линиями нервюр и тянется выше, все выше вверх.
Опасность настигает внезапно. Они притаились в изъеденном солнцем и ветрам песчанике. Уродливо искривив пространство, они неестественно растопырили ребра-контрфорсы и обглодали их до конца, оставив только остов. Без них не обходится ни один водосток, ни одна капитель, ни один элемент выглядящей математически выверенной, исполненной рациональности готики. Чудовища населяют готические храмы. Гнусные, глумливые, непристойные твари — они здесь не чужие. Они — плоть от плоти готики, порождения европейского духа. Никто не знает, откуда они взялись и что они здесь делают. Возможно, они просто ждут. Ждут своего часа. Ждут уже много веков, чтобы, наконец, безраздельно завладеть пространством европейской культуры и заклеймить ее своим уродливым, беспощадным и бессмысленным естеством. Они не упустят своего шанса, а такого шанса, как сегодня, кажется, у них еще не было.
I. Без убежища
Не правда ли, трудно определить грань, за которой вдруг исчезает привычный мир? Не важно, был ли он плох или хорош, важно, что он надежно защищал нас от хаоса грядущего. Соскальзывание в кошмар необъяснимого слагается из знаков, каждый из которых обладает лишь крупицей неожиданной новизны.
Бот они лежат передо мной на столе. Возьмите, например, рисунок кротовой норы или фотографию черной дыры. Любой пользователь Интернета прекрасно знает, чем сегодня заняты и физики, и математики: они конструируют машину времени, строят математические модели, в которых время прерывно и обратимо. Оказывается, не только время больше не является таким, каким оно нам казалось: объективным, линейным, мирно текущим из прошлого в будущее. Мироздание в целом, про которое мы привыкли доподлинно знать все, до последней, мельчайшей, невидимой частицы, как выясняется, на 95% состоит из «темной материи», темной потому, что о ее составе и свойствах современной науке ничего не известно.
Вот статья, в которой рассказывается о том, как бывший генеральный канцлер Германии Шредер вскоре после провала на выборах принял предложение российских властей возглавить одну из дочерних компаний российского Газпрома. Случай — беспрецедентный не только в истории Германии, но и в истории западной демократии.
О чем говорит этот потрясающий факт? О вовлечении в российскую коррупцию наших западных соседей, как комментировали его многие обозреватели? Отнюдь не только об этом. Казус Шредера показывает, как изменяются правила международной политики, как устанавливается новый курс на утверждение субъективности как ее принципа, когда интересы отдельных людей начинают значить и весить гораздо больше, чем политические интересы представляемых ими держав. Кого интересовало, симпатичен ли Брежнев Рейгану? Или вопрос о том, как относится Гельмут Коль к Маргарет Тетчер? Сегодня большая политика — это рассказ о том, нравятся ли друг другу Путин и Буш, Ширак и Блейер, и если нет, то почему. Показательно, что в ответ на это замечание политологи, хитро прищурившись, возражают: «Но ведь так было всегда, и в XIX веке правители были связаны личными узами!» С той только разницей, что большинство правителей в XIX веке были монархами.
Разве не ново то, что во главе крупнейших государств, называющих себя демократическими, стоят лидеры, в политическом поведении которых преобладает ситуативный, личный, индивидуальный выбор, которому больше не способны эффективно сопротивляться институты демократического общества — многопартийная система, деятельность оппозиции, борьба правых и левых, политический кодекс чести и т.д.? Ибо, как давно замечено, власть больше не ходит этими тропами, делая ненужными и безжизненными сами понятия. Политика, которую проводят и предлагают обществу Буш в США, Ширак во Франции, Путин в России, — это не правая политика уже хотя бы потому, что она не противостоит организованной и мощной левой политике.
Новизна современной ситуации особенно заметна оттого, что главы государств все меньше ощущают себя связанными с определенной политической платформой. В самом деле, можно ли ответить на вопрос: какой политической программы придерживается Президент Российской Федерации В. В. Путин? К какой партии он принадлежит? Казалось бы, в случае с Президентом Соединенных Штатов Дж. Бушем дело обстоит куда проще — ведь за него голосуют республиканцы. Но, оставляя в стороне вопрос о растущем сходстве политических программ республиканцев и демократов, в более общем смысле — о трудности оценивать современную политику с точки зрения различия правых и левых, следует напомнить, что Буш обычно апеллирует к своему собственному видению будущего Америки, а не к программе своей партии.
Важно подчеркнуть, что политические решения по обе стороны Атлантики больше не исходят из партийной идеологии, которая перестала быть как сдерживающим, так и вдохновляющим источником политики. Говоря об упадке идеологии, я имею в виду не только и не столько упадок роли программных представлений об общественном благе, которым руководствовались — или должны были говорить, что руководствуются, — политические лидеры при принятии своих решений. Речь идет об отсутствии потребности у избирателей верить в необходимость ясной политической программы и разделять с политическим классом видение того, каким должно быть общество. То, что раньше преподносилось в качестве коллективной воли, теперь все больше приобретает статус сугубо индивидуального, субъективного видения будущего общества. Раскроем роман «Платформа» Мишеля Уэльбека: «В это время совсем рядом, у торгового центра в Эври, учинили побоище две бандитские группировки, в ход шли ножи, бейсбольные биты, баллончики с серной кислотой; к вечеру стало известно, что в драке погибли семь человек, из них — двое случайных прохожих и один жандарм»[1].
Преступностью в России никого не удивишь. Но давно ли стало привычным такое описание европейского города?
Или возьмите социологический опрос, посвященный так называемой «молодежной культуре». В нем говорится о повсеместном росте в современном обществе слоя населения, нормы поведения которого постоянно вступают в прямой конфликт с декларируемым консенсусом о порядке, законности, морали демократического общества. Тем не менее блюстителям закона не удастся ничего поделать с этой средой — даже представить «ненормальность» ее «асоциального» поведения как достойную осуждения в глазах общественного мнения.
И еще: можно не боясь, что вас поднимут на смех, взахлеб читать книжки про великих магов и вампиров, заколдованные мечи и волшебные кольца, гномов и драконов, а также всерьез обсуждать оккультные практики, синергетику и мистические учения. Вас не удивит, когда при вашем появлении в чайном магазине продавщица отложит томик «Призраки в замке: Английские готические рассказы», а в книжном, куда вы поспешите, чтобы купить такую нужную книжку окажется, что все, что связано с ведьмами, призраками, также как и сама эта книжица, только что вышедшая массовым тиражом, уже продано.
Из таких разрозненных мозаичных фрагментов складывается картина прорывов готического общества сквозь тонкую ткань привычной действительности. В нашу с вами обжитую повседневность. Мы больше не верим в способность старых учений — будь то марксизм, психоанализ, структурализм или христианство — объяснять социальный, политический и моральный опыт, но наш язык, как по волшебству, не находит слов, чтобы назвать — а значит, и понять — суть происходящих перемен. Немота, парализовавшая интеллектуалов, оборачивается неспособностью предложить новые объяснения и новые проекты, которые вызвали бы доверие общества.
Отсутствие новых слов и идей заставляет использовать старые понятия — феодализм, корпоратизм — для объяснения сегодняшнего дня. Но эти попытки обречены: вместо того чтобы помочь понять новую действительность, они подгоняют ее под себя, вкладывают в нее отжившие, чуждые ей смыслы.
Возьмем понятия «феодализм» или «неофеодализм». Действительно, некоторые современные экономические и социальные практики — например, приватизация функций государственной власти[2], упадок публичного пространства, личные отношения как основа общественной жизни — обладают определенным сходством со Средневековьем. Тем не менее понятие «феодализм», имеющее долгую традицию употребления для описания средневековья, отсылает к социально-политическому устройству общества, важнейшие черты которого не имеют ничего общего с современностью: например, связь между титулом и землей; особые формы зависимости крестьян от сеньоров, связанные, в первую очередь, с сельскохозяйственным трудом и натуральной формой хозяйства; доминирующая в культурной и общественной жизни роль религии, служившей основой морали, по сути, подменявшей собой мораль и т.д. Понятие «феодализм» неизбежно вызывает в нашем сознании — и не только у историков Средних веков — представление о традиционном аграрном обществе, обладающем жесткой социальной иерархией, основанной на древности рода, передаваемых по наследству привилегиях и земельной собственности. Оно заставляет вспомнить — и не только благодаря учебникам истории, но и живописи, средневековой литературе, современным историческим романам, наконец, историческим фильмам — о турнирах, королях, рыцарях, замках, монашеских орденах и об уровне технической неразвитости общества, которую трудно вообразить современному человеку. Старое понятие способно лишь заставить читателя иронически отнестись к тем тревожным тенденциям современности, к которым хочет привлечь внимание автор. Ибо всем понятно, что сейчас никакое не Средневековье.