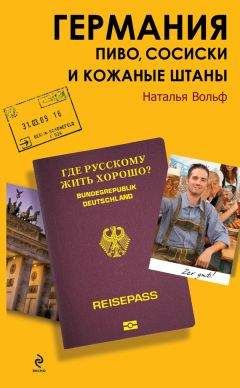Григорий Амелин - Миры и столкновенья Осипа Мандельштама
(II, 247)
“Грифельная ода” – надгробный монумент, стелла и песнь в память всех выбывших из строя, разорвавших цепь. Библейская вертикаль “кремнистого пути” со стыками звезд, следами подков, знаками разрыва колец, язвами и царапинами лета в “Египетской марке” переходит в книжную горизонталь Камня-города: “Он [Парнок] получил обратно все улицы и площади Петербурга – в виде сырых корректурных гранок, верстал проспекты, брошюровал сады. Он подходил к разведенным мостам, напоминающим о том, что все должно оборваться, что пустота и зияние – великолепный товар, что будет, будет разлука, что обманные рычаги управляют громадами и годами. Он ждал, покуда накапливались таборы извозчиков и пешеходов на той и другой стороне, как два враждебных племени или поколенья, поспорившие о торцовой книге в каменном переплете с вырванной серединой” (II, 490-491). Этот кенотаф восходит к стихам раннего Маяковского: “А я – / в читальне улиц – / так часто перелистывал гроба том” (I, 48). У обоих поэтов город – некрополь и раскрытая книга. Как и у Маяковского, книжный том вырастает до размеров каменной плиты. Франц. tombe – это “надгробный камень”, а также “гроб”, “могила”.
Это многоязыковое кружение, перепутывание книг и имен (переплет!) и составляют те “веселых клерков каламбуры”, которых не понимает мальчик мандельштамовского стихотворения “Домби и сын”:
Когда, пронзительнее свиста,
Я слышу английский язык –
Я вижу Оливера Твиста
Над кипами конторских книг.
У Чарльза Диккенса спросите,
Что было в Лондоне тогда:
Контора Домби в старом Сити
И Темзы желтая вода…
Дожди и слезы. Белокурый
И нежный мальчик – Домби-сын;
Веселых клерков каламбуры
Не понимает он один.
В конторе сломанные стулья,
На шиллинги и пенсы счет;
Как пчелы, вылетев из улья,
Роятся цифры круглый год.
А грязных адвокатов жало
Работает в табачной мгле –
И вот, как старая мочала,
Банкрот болтается в петле.
На стороне врагов законы:
Ему ничем нельзя помочь!
И клетчатые панталоны,
Рыдая, обнимает дочь…
1913 (I, 93)
В имени “Домби” звучит и “дом” и “том”, “книга”. Например: “Так радовались немцы в своих черепичных домах, впервые открывая свеженькие, типографской краской пахнущие, свои готические библии” (II, 300); “В послесловии к “Запискам чудака” Белый оговаривается, что он написал заведомо плохую книгу…” (II, 320). Посещение Диккенса – это приход в дом самой литературы. Мандельштам писал о своем учителе В.В.Гиппиусе: “Я приходил ‹…› на дом к учителю “русского языка”. Вся соль заключалась именно в хожденьи “на дом”, и сейчас мне трудно отделаться от ощущенья, что тогда я бывал на дому у самой литературы” (II, 390). “Домби и сын” – это такое же бывание на дому у самой литературы и учителя английского языка – Чарлза Диккенса. Вкус словесной каламбурной карусели задает его фамилия: англ. dickens – “черт” и имя Чарлз (Карл) – “король”, что закрепляется русским глоссографическим “рой” (цифр) = франц. roi, “король”. Монета “шиллинг” – полная и безусловная анаграмма “свистящего” языка – “инглиш”, английский. Сами романы Диккенса образуют веселый рой, кружатся и тесно переплетаются. Виновник этой контаминации – Оливер Твист, своим именем заплетающий двойные венки из книг. Его имя содержит книгу, стоит вольным экслибрисом на томах: книга – liber (лат.), livre (франц.). Персонаж здесь неизмеримо больше автора, перерастает его, верша судьбу книги дальше. Герой одной из книг предстательствует, как сказал бы сам Мандельштам, за идею книги, книгу как таковую. Фамилия же его предопределяет образ действия, поскольку англ. twist – “переплетаться, сплетаться, крутить”. Омри Ронен точно угадал в одном из хлебниковских стихотворений такую же игру с twist. Только у Хлебникова в диккенсовского героя воплощается главный заумник русского авангарда – Алексей Крученых. Его именем и называется текст:
Лондонский маленький призрак,
Мальчишка в 30 лет, в воротничках,
Острый, задорный и юркий,
Бледного жителя серых камней
Прилепил к сибирскому зову на “чоных”
Ловко ты ловишь мысли чужие,
Чтоб довести до конца, до самоубийства.
Лицо энглиза крепостного
Счетоводных книг,
Усталого от книги.
Юркий издатель позорящих писем,
Небритый, небрежный, коварный,
Но девичьи глаза.
Порою нежности полный.
Сплетник большой и проказа,
Выгоды личной любитель.
Вы очаровательный писатель-
Бурлюка отрицательный двойник.
(III, 292)
Мандельштам писал: “Я заключил перемирие с Дарвином и поставил его на воображаемой этажерке рядом с Диккенсом” (III, 201). Хлебников заключает отнюдь не воображаемое перемирие с Крученых, ставя его рядом с диккенсовским героем. “Бледный житель серых камней” – никакая не птичка-каменка (“крученок”), а Оливер Твист, к которому добавляется хвостик сибирского имени (Круч-еных). Этот, как сказал бы Белый, верч имени и закручивает сюжет. Поэт – “сплетник”. Отрицательным двойником Бурлюка болтун и проказа Крученых оказывается по коварному правилу буравчика. В одноименном стихотворении Бурлюк “И точно бурав ‹…› сверлил собеседника” (III, 289). Оба они, “жирный великан” Бурлюк и “юркий” малыш Крученых, – необходимые двигатели футуристического издательского дела. У Маяковского:
Сущность поэзии в том,
чтоб шею сильнее завинтить винтом.
Фундамент есть. ‹…›
Я и начал!
С настойчивостью Леонардо да Винчевою,
закручу,
раскручу
и опять довинчиваю.
(IV, 109)
Всякое стихотворение устремляется в своей кратчайшей форме к тому, чтобы стать романом и городом. Именно так Мандельштам определял поэтику Ахматовой. Именно о романе-городе написаны многие стихи Пастернака (“Город”, “Бальзак”, “Белые стихи” и др.).
Всякое строящееся стихотворение должно вести себя, как Москва в трамвайном кольце “А” и “Б”, – “А она то сжимается, как воробей, / То растет, как воздушный пирог” (III, 48). Краткость и сжатие стиха – залог его амплифицированности, вплоть до рождения космической улыбки. Москва ведет себя по тому же правилу буравчика: при закручивании, движении по часовой стрелке, по кольцу “А”, она утапливается, сжимается; при движении посолонь, по кольцу “Б” – она растет вверх, как вывинчивающийся бурав. Так же ведет себя и открывающаяся, растущая справа налево, с востока на запад кольцом “Б” и закрывающаяся по часовой стрелке до немоты, как кольцо “А”, Книга.
Устремляясь на юг (вниз) в “субботнюю Армению” Мандельштам ищет на горе Арарат (верх) свое “гробовое дно”, “каменнокровность” и “твердокаменность”. Именно Гора содержит первообразы прошлого и будущего: “Если приму как заслуженное ‹…› твердокаменность членораздельной речи,- как я тогда почувствую современность?” (III, 386). Самым трудным оказывается увидеть близкое, настоящее, ту самую ироничную, москвошвейную современность. И Мандельштам начинает улавливать ее черты: “На мой взгляд, армянские могилы напоминают рыжие футляры от швейных машин Зингера. Молодежь звала купаться всех жизнелюбивых. [Томная дама яростно читала, лежа в парусиновом кресле, одну из великих книг нашей москвошвейной литературы]” (III, 375). Сдается, что дама читает неистребимо жизнелюбивые “Двенадцать стульев” Ильфа и Петрова.
Весь уничижительный запал сквернословия в адрес литературы и литературной критики поэт истратил в своей “Четвертой прозе”. Его обвинительный пафос сосредоточен на лакействе и сервилизме, разрешенности и всетерпимости (читай: продажности) обитателей Дома Герцена, превращенного в “дом терпимости”. Но нигде Мандельштам не говорит об искажении реальности или лживости собратий по перу. Потому что для него, как и для Пастернака, искусство всегда врет. Эта специфическая лживость изначально встроена в конструкцию книги ее об-лож-кой.
И какие бы политические, любовные, даже гастрономические линии не переплетались в стихотворении “Неправда”, вхождение в избу к неправде – посещение и чтение Книги:
Я с дымящей лучиной вхожу
К шестипалой неправде в избу:
– Дай-ка я на тебя погляжу,
Ведь лежать мне в сосновом гробу.
А она мне соленых грибков
Вынимает в горшке из-под нар,
А она из ребячьих пупков
Подает мне горячий отвар.
– Захочу,- говорит,- дам еще…-
Ну, а я не дышу, сам не рад.
Шасть к порогу – куда там – в плечо
Уцепилась и тащит назад.
Вошь да глушь у нее, тишь да мша,-
Полуспаленка, полутюрьма…
– Ничего, хороша, хороша…
Я и сам ведь такой же, кума.
(III, 48)
Изба неправды сродни горе: “горшок”, “горячий отвар”, “гроб”, “порог”. Блоковское признание “Я сам такой, Кармен” звучит здесь горькой иронией близости к шестипалой хозяйке: “Я и сам ведь такой же, кума”. Поэт равен кривотолку книги. Он неразрывно связан с мировой пучиной эпохи.