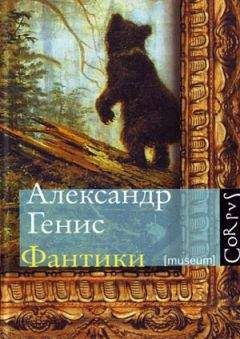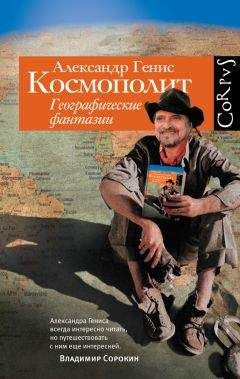Александр Генис - Вавилонская башня
Во всем этом легко узнать вечные проделки шаловливого романтизма, который горазд ломать, а не строить спрашивать, а не отвечать. Но романтик пишет на полях классицизма. Поэтому XIX век легко справлялся с разбуженной романтизмом чувственностью, переламывая ее своей аскетической доблестью — верой в долг. XX век играл с куда более опасным огнем: реабилитируя голос сердца, внушая сомнения в разуме, он будил стихию, неизвестную прошлому, — массовое общество, которое новый романтизм освобождал от рациональной узды.
Вырвавшийся на волю человек XX века уже не нуждался в общей, объективной, отрезвляющей правде ХIХ века — правда у каждого была своя. Дух музыки, реявший над бывшим царством числа, зазвучал в музыке революции, той самой, которую звал слушать наш Блок.
Заботясь о симметрии, XX век нашел классицистский ответ романтическому вызову — модернизм. Оскорбляя критерии наивного правдоподобия, лелеемые Х1Хвеком, он был на самом деле его преданным учеником — не авангардом, а арьергардом истории. Пока одни отвергали монополию разума, другие пытались утвердить ее навечно. Модернисты были апостолами порядка. Они верили в торжество конечных истин с куда большим фанатизмом, чем скромные просветители ХIХ века. Модернисты искали универсальную формулу мира, которую можно вывести, рассчитать, предсказать, воплотить. Абстракционизм Кандинского и супрематизм Малевича суть рецепты, которые сводят хаос жизни к алгебре, к новой и вечной гармонии, к окончательному триумфу ума над сердцем. Рационального начала, попросту — смысла, в их картинах куда больше, чем у Репина.
Тихая наука XIX века, не устояв перед насилием художественного темперамента, преобразилась в могущественный Научный миф, который стремился подчинить мир своей правде — логике.
В этих координатах коммунизм был классицистским реваншем за романтический разгул революции. Тоталитаризм — это гипербола разума, поклоняющегося истине. Массовое общество нашло в нем себе логичную, научно обоснованную форму существования, ведь наука имеет дело с надличной правдой числа и факта.
Система против хаоса, техника против природы, государство против человека, общее благо против личного эгоизма, объективное против субъективного, деловитая магия против мистического экстаза, поэзия против прозы, фантастика против реализма, смысл против бессмыслицы, — в каждой из этих оппозиций можно проследить все ту же борьбу классицизма с романтизмом. Только для этого следует переклеить старые этикетки.
Например, сфера фантастического, принадлежавшая раньше тоскующему сердцу XIX века, стала в XX железным рычагом разума: не реалисты, а фантасты мыслили умозрительными схемами, сводя жизнь к повторяющимся, то есть наукообразным явлениям.
Другой пример — поэзия. Она — достояние классицизма, стремящегося к вечной идеальной форме, а проза — дитя романтизма, оберегающая его стихийную природу: стихи — это камень, роман — это море.
И так во всем: война жизни с расчетом, схемы со стихией, умысла с абсурдом заполнила XX век, которому повезло лишь в том, что маятник, раскачивающийся между романтизмом и классицизмом, никогда не останавливался.
Стоило тоталитаризму отвердеть и обзавестись классическим колоннами, как появился сюрреализм, свергающий власть разума. В ответ на массовую театрализацию жизни является неореализм с его установкой на естественную, а не сыгранную действительность. Технократическое насилие над природой встречает отпор со стороны «благородных дикарей», в том числе и наших «деревенщиков». Холодная война, логично разделившая Добро и Зло по классицистскому сценарию, взрывается молодежным бунтом, открывшим романтический третий путь в своем психоделическом бегстве.
Конечно, кажется, что на стороне разума — сила: пушки секретная полиция и концентрационные лагеря, а на стороне чувства — одни пустяки, цветочки. Но это не так. Классицизм питается воздухом абстракций, а романтизм, как Антей, припадая к земле, набирается от нее сил — не столько для прямой схватки, сколько для хитроумного обходного маневра.
В результате логика постоянно проигрывает все сражения: смысл растворяется в бессмыслице. И если подводить итог этой долгой битвы, то победителем окажется не классицистская «правда», а романтическая «свобода», которой XX век нашел свой синоним — абсурд.
Война со смыслом
Даниил Хармс в стихотворении «Молитва перед сном» просил у Бога: «Разбуди меня сильного к битве со смыслами».
Посреди державы и эпохи, подмявшей под себя бессмыслицу, Хармс сумел поставить веку диагноз и назначить лечение.
Давайте воздадим должное противникам. Ведь логика действительно логична. Ведь за каждым безумным проектом XX века — от орошения пустынь до осушения морей, от поворота истории до поворота рек, от строительства коммунизма до его перестройки — стояла Причина. Во всем этом был смысл, наглядный и доказуемый — как в формуле «социализм плюс электрификация». Чем больше тракторов, тем больше хлеба. Чем больше школ, тем больше умных. Чем больше сеять, тем больше жать. Чем больше — тем лучше.
Это экспансионистское мышление несет в себе благородное зерно, под которое было не жаль распахивать любую целину — классицистскую мудрость здравого смысла.
Возразить тут можно только одно: не работает. Жизнь не подчиняется ни сложению, ни умножению — в конце концов, не она, а мы придумали арифметику.
Абсурд — это убежище от непомерной власти таблицы умножения — оттенял собой весь XX век. На каждый его ответ абсурд находил свой вопрос. Разрушая, он строил, внося свой позитивный вклад в культуру нашего столетия.
История абсурда — это хроника отчаянной борьбы с хаосом, причем на его, а не наших условиях. Только абсурд был до конца честен в своей претензии отразить мир таким, каков он есть, а не таким, каким нам хотелось бы его видеть. Внося смысл во Вселенную, мы ее беззаботно упрощаем. Укладывая аморфную жизнь в любое прокрустово ложе, мы пытаемся приспособить к делу только те ее проявления, которые поддаются наблюдению и классификации.
Эта методология XIX века дорого обошлась XX, который всеми силами пытался упростить мир: придумав электрический утюг, он думал, что усмирил молнию. Но гроза, как говорят физики, слишком сложное явление, чтобы наука могла ее описать. Все утюги одинаковые, а все грозы — разные. Жизнь в отличие от ученого не имеет дела с повторяющимися явлениями — только с уникальными.
Сколько раз мы уже натыкались на эту антиномию, принимая свои законы за общие, фантазию за правду, поэзию за прозу. Представление о мире как книге, в которой уже есть все ответы, — величественное лирическое заблуждение, которое превращает Бога в писателя, а нас в читателей. Тем не менее в поисках адекватного прочтения XX век провел почти весь отмеренный ему срок (пока наконец не разлюбил читать вовсе). Только абсурд постоянно мешал ему углубляться в книгу бытия, утверждая что смысл мира лежит не в его глубине, а на той поверхности, которую мы населяем.
Камю говорил: «Покончить с собой — значит признаться, что жизнь сделалась непонятной».
Абсурд учил не умирать, а жить в непонятом мире. Каждый раз, когда очередное объяснение оказывалось ложным, он подхватывал отчаявшегося человека, брошенного здравым смыслом.
Не трагическими, а освобождающими кажутся открытия абсурда, история которого ведет нас от одной пропасти в другую, подхватывая на лету.
Чеховский герой не знал, что делать, но думал, что кто-то, в будущем, узнает, и был за эту веру наказан бесплодностью. Герой Кафки расплачивается за то, что он живет в мире, который ему непонятен. Персонажи Беккетауже и не задают вопросов, ибо твердо знают, что ответов нет и быть не может. И все же никто из них не отказывается от жизни, лишенной смысла. Может быть, потому, что смерть — это следствие разочарования в иллюзии смысла, которую абсурд и разоблачает? Абсурд нас удерживает на поверхности мира тем, что мешает заглянуть в его глубину.
В этом смысл и той «борьбы со смыслами», которую вел Хармс. Ведь строительство социализма велось над бездной, принимаемой за прочный фундамент. Попытка прорваться за пределы принципиально горизонтального и потому двухмерного мира XX века оборачивалась провалом; путь вверх вел вниз: вместо небоскреба Хлебникова получался котлован Платонова — яма в бытии, ставшая ему могилой.
Массовое общество обтекает землю, как океан, заливая собой все пустоты. Оно растекается по поверхности полого шара, не имеющего истинной глубины. Те, кто в детстве играл с лентой Мёбиуса, имеющей только одну сторону, могут себе представить эту топологическую ловушку, реализовавшуюся и в социальном и в культурном пространстве нашего века.
С первых дней в Америке меня преследует навязчивый образ вот такого двухмерного, плоского мира, лишенного объема: мир всегда повернут в профиль, он весь — как театральные декорации, где перспектива всего лишь уловка сценографа. Нарисованная, мультипликационная жизнь, которая вся исчерпывается поверхностью, — бутафорские гири, этикетные чувства, вежливый мир. Его можно пощупать, но нельзя прочесть; изобразить, но не постичь; увидеть, но не узнать. Его тайна лежит на поверхности, она внешняя, а не внутренняя.