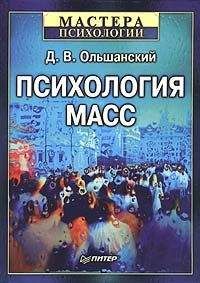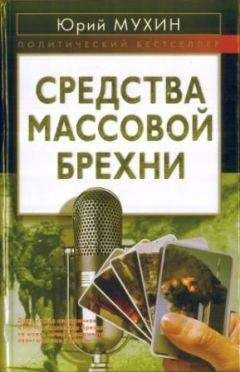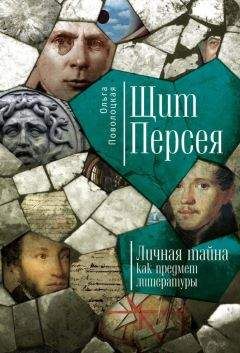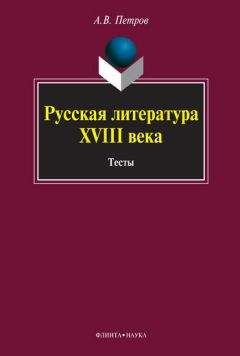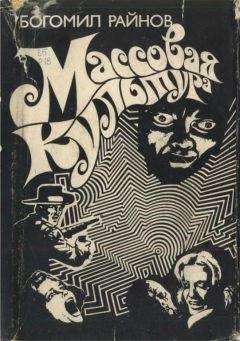Наталия Николина - Массовая литература сегодня
«Военачальники» (предводитель мелкой преступной группировки, бывший следователь прокуратуры, хитник) и «их люди» в мирное время живут, как на фронте: Я эту выходку рассматриваю как начало войны; атаковать базу конкурентов; бросились в атаку, битва закончилась.
Автор эстетизирует силу и красоту пылающего огня. Поджог – распространенное средство, используемое в войне за изумруды: пыхнул зажигалкой <…> взвилось бело-голубое сияние, потом полыхнуло так, что Вовец кубарем вкатился под деревянное днище вагончика; Ср.: пылала сама земля; гулкое желтое пламя; огненный шквал; пламя быстро объяло свежие крепи.
Изображение многочисленных убийств как войны укрупняет событийный план повествования, лишенного даже поверхностного психологизма. «Леденящие кровь» подробности последствий побоища заставляют содрогнуться, но чувств не задевают: Из левого, рефлекторно зажмуренного глаза (Барсука), торчал пятнадцатисантиметровый кусок стального прута. Правый глаз был широко открыт и полон удивления. Расшитая бейсболка упала с головы. Ошарашенный Шуба машинально поднял ее и попробовал надеть обратно, словно опасался, что покойнику голову солнышко напечет. Но кепочка снова свалилась. И только тут до Шубы окончательно дошло, что Барсук прижмурился навсегда. Приведенный фрагмент представляет собой несобственно прямую речь. Так, словосочетание зажмуренные глаза принадлежит голосу автора; глагол прижмуриться – голосу персонажа, а неспособность к сопереживанию и психологическому анализу сближает автора и персонажа.
Преступное лишение жизни людей остается без наказания. Мотив концы в воду конкретизируется смыслами «глубина»,»темнота» и логически завершает развитие каждого эпизода, связанного с уничтожением, убийством: Карьер, лес, озеро, болото – и все концы покойник уносит в воду. От трупов избавляются легко и деловито, без тени страха: – Какие проблемы? – пожал плечами Ченшин. – Концы в воду, вспомни народную мудрость. Побросайте в пруд (погибших), пусть плавают. Надо камушками снабдить, чтоб лучше пырялось;…пусть лучше найдут на бережке как жертву водной катастрофы, и никаких лишних вопросов (об убитом рэкетире); …рэкетиры хотят представить все происшествие как несчастный случай, природную катастрофу; Один из пацанов получил указание отогнать «уазик» с убитым мужиком как можно дальше в лес, в какую-нибудь ложбину; Труп, спрятанный в сарае, они под вечер загрузили в тракторную тележку, завалили ветками… и отвезли в маленький карьер. Он находился в километре от Крутихи <…> Вся деревня стаскивала сюда разный мусор и всякую дрянь. Здесь и нашел вечный покой браконьер по кличке Двужильный.
Из приведенных и подобных эпизодов извлекается стандартная цепочка хода мысли (убить конкурента – уничтожить улики – завладеть богатством), исключающая наличие моральных принципов. Писатель, разрабатывающий подобную схему, может рассчитывать лишь на интерес читателя с заниженными нравственными требованиями к человеческим отношениям.
Текст характеризуется картинной безо́бразной образностью. Так, жесткая реальность кровавых сцен производит впечатление фактографичности. Отсутствие художественной условности стереотипизирует эти картины (похожие одна на другую). В памяти не остается ни одна из них. Скорее, происходит их объединение, слияние.
Образное средство, наличие которого обращает на себя внимание, – сравнение. Сравнение в тексте выполняет жанрообразуюшую функцию. С помощью развернутого сравнения поддерживается воспроизведение эпизодов войны в ее криминальнорегиональном варианте. Так, сравнение используется при описании взрыва. Мощность взрыва сравнивается с бушующим океаном. Чувствуя стандартность такого сопоставления, автор насыщает его деталями, характеризующими степень нанесенного взрывом ущерба: …пироксилиновая шашка… остановилась и рванула <…> словно волна могучего океанского прибоя, смывающая все на своем пути, клубящийся вал крутил пылающие деревянные обломки крепей и вырванные бревна-стойки, до того подпиравшие кровлю.
Группировка, нелегально занимающаяся добычей драгоценных камней, сравнивается с оккупантами. Такое сравнение подготавливает ожидание очередного столкновения с конкурирующей группировкой, ибо оккупанты всегда встречают сопротивление: Арендаторы хозяйничали на делянке, как оккупанты на вражеской территории <…> они уже не притворялись лесорубами, а приступили к разработке недр.
Сравнение, поддерживающее мотив крови, «опредмечивает» человеческую жизнь и, следовательно, обесценивает ее: …темнокрасные сгустки свернувшейся крови, словно комки протертой свеклы, лежали на земле.
Сравнение выступает в функции образного сопроводителя мотива убийства по заказу. Так, бывший следователь прокуратуры, ставший наемным убийцей, впадает в эйфорию, неестественность которой не ощущается в общем контексте. Сравнение изображает предвкушение радости легкого убийства (человека так же просто ухлопать, как муху): Человека по имени Иван, а по фамилии Кацман, <…> этого ухаря-еврея, уроженца Удмуртии, до женитьбы носившего фамилию Козлов, и надо было ухлопать <…> Ченшин засмеялся <…> им овладело какое-то ненормальное веселое настроение, словно на дискотеку[6] собирался. Конвульсии поверженного врага созерцают – ‘рассматривают, пассивно наблюдают’, даже не вздрагивая: Вовец продолжал созерцание тупой физиономии врага. Тот… дернулся, заозирался, и глаза стали смотреть в разные стороны, как зайцы.
Сравнения поддерживают субъектную структуру текста, воспроизводят низменность сферы жизни и смерти персонажей. Вторая часть сравнения переводит объект из сферы человеческой в предметностную (ненужная вещь, отбросы) или зоосемическую (символика низкого) семантические сферы: Косарев оставил его (Вовца) здесь слишком легко, словно сбросил с плеча старую телогрейку; – Я неистребим и вечен, как русский таракан. Меня и дуст не берет; Ревущая волна подхватила остатки костра и всех, кто здесь находился, и смыла, как дерьмо в унитазе; – Брось, чинарик, – бушевал Вовец. – Порву, как бутерброд, гнида!; Хозяин, распластавшийся на земле, словно обожравшаяся жаба… кряхтел, тяжело отдуваясь.
Охарактеризованные речевые жанрообразующие элементы выступают как средства создания поэтики низкого.
Лингвокультурологическая критика текста
Анализ проводится с учетом разграничения речи автора и речи персонажей.
Необходимо отметить, что текст перегружен отступлениями от языковой нормы, которые встречаются в речи автора. Прокомментируем несколько очевидных примеров.
Из двери спрыгнул человек. Глагол спрыгнуть, реализующий значение ‘прыгнуть сверху вниз’, употребляется с предлогом с, но не с предлогом из. Нарушение предложно-падежного и падежного управления встречаем и в других случаях. Например: ударился в гладкое железо; За неторопливым разговором скромно распили поллитру «Московской». Предложно-падежное сочетание в отдельных случаях немотивированно расширяет грамматические возможности глагола: Бывшие братские республики стремительно разбежались из Советского Союза.
Автор неправильно употребляет падежное окончание существительного: над поясной резинкой спортивных шароваров (вместо шаровар); произвольно заменяет род существительного: в кепи, расшитой (вместо – ср. р. – в кепи, расшитом) позументами.
Словоупотребление нередко характеризуется неточностью. Например, в авторской речи используются нелитературные приставочные глаголы: Вовец осторожно, стараясь не вскользнуть-ся, поднялся; Стрелок упал с крыши, но удачно, ничего из костей не сломал, только лицо немного обшкарябал. В данном предложении грамматическая ошибка усиливает впечатление нелитературности. Слово здорово автор неоправданно употребляет в просторечном значении – ‘в значительной степени’: Светло-зеленые изумруды здорово отличались от привычных балышевских. Приобретает ярко просторечную окраску вся фраза, насыщенная просторечными элементами: Обломочки и прочая мелкота здорово посекли голую спину.