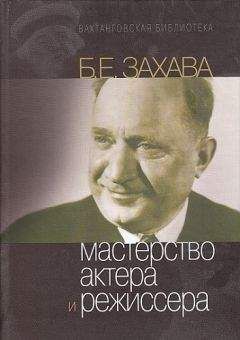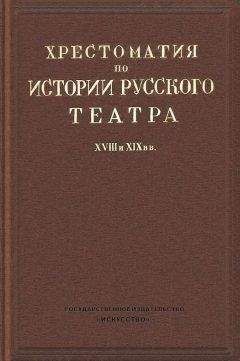Андрей Якубовский - Профессия: театральный критик
К "Медее" Драматический театр имени К. С. Станиславского Обратился почти что вслед за "Антигоной". Театр стремится "освоить" пьесы одного из интереснейших и своеобразнейших французских драматургов и готов идти ради этого на смелый эксперимент. Как эксперимент, сопряженный с немалым риском, и следует, на наш взгляд, рассматривать этот спектакль.
В постановке Б. Львова-Анохина достигнута редкая согласованность всех элементов театрального действия. Пространственное и изобразительное решение спектакля, игра актеров, музыка, свет— все здесь приведено к единству. Все исполнено особой многозначительности, все рассчитано создает особую тревожную атмосферу. Можно без преувеличения сказать, что театру удается найти стиль, адекватный ануевскому трагическому театру.
Пустая сцена, в центре которой стоит прямоугольное каменное ложе, погружена во мрак. Из темноты герои вступают на чуть наклоненный к рампе пол сцены, и в ней же они растворяются. Им сопутствует заунывная, полная трагических предзнаменований музыка. Зыбкий хаос звуков заполняет паузы, возникающие в действии. Он находится в согласии со смятенными переживаниями героев и одновременно контрастирует с воспаленными "злыми страстями" Медеи и Язона. Музыка звучит в спектакле под сурдинку, негромко — отрезвляюще негромко, чуть равнодушно.
Удивительно красива колористическая гамма костюмов (художник А. Круглый), в которой преобладают красновато-коричневые, зеленовато-серые рембрандтовские тона, шероховата или матова поверхность одеяний, сработанных из грубых материалов: Медея в холщовом перепоясанном хитоне, Язон в плотном кожаном панцире, Креонт в таком же кожаном негнущемся плаще. Свет отражается только в металлических украшениях.
Действие спектакля — за исключением двух-трех эпизодов — строго ограничено режиссером световым пятном вокруг каменного прямоугольника. Луч света не следует за героями по сцене, не встречает и не провожает их. Это они, герои, покорно входят в световой круг, это здесь, на световом пятачке, звучат их взаимные попреки, вершатся их судьбы...
Когда-то, много лет назад, знаменитый французский режиссер и актер Фирмен Жемье вместе с драматургом де Буэлье инсценировал в парижском Зимнем цирке античный миф о царе Эдипе. В финале трагедии Жемье создал потрясающую пантомимическую сцену, в которой прозвучали и богоборческие мотивы, и тема роковой обреченности мятущегося героя. Его Эдип замирал на ступенях громадной лестницы и, "сжав кулаки... грозил ими небу, откуда, как взгляд божества, падал одинокий луч. Он обвинял судьбу" (Поль Гзелль).
"Медея" далека от "Эдипа" де Буэлье, от массового действа Жемье. Тем разительнее совпадение. Образ спектакля — это ослепительное пятно света, куда как бы помимо своей воли влекутся герои и где они обречены корчиться в пароксизме страсти, "под взором карающего божества".
В спектакле Львова-Анохина, в игре его актеров, как всегда у этого режиссера, все рассчитано, глубоко прорисовано и определенно. Нельзя сказать, что мизансцены поражают изобретательностью, но в них нет ничего лишнего. Пожалуй, они были бы чересчур рационалистичны, если бы — перефразируем одного парижского критика — не были так точны. Точны до романтизма.
Сдавленные световым обручем, Язон и Медея движутся по кругу. Они словно танцуют боевую пляску, исполненную явной угрозы, скрытого смятения и страха. И они не могут этот обруч разорвать — они навсегда вместе, одинаково несчастные Медея и Язон.
Все здесь построено на контрастах движения и покоя. Но покой иллюзорен. Спектакль начинается с высокой драматической ноты, которая временами приглушается лишь потому, что страсть героя совершает свою разрушительную работу в нем самом. Спокойствие здесь — это оцепенение, момент накопления сил, немой экстаз героя, который тут же разрешается во взрыве, потоке слов.
И нет кульминации в этом спектакле — здесь все движется по порочному кругу повторности. В постоянстве смены взрывов и оцепенения, в котором кровавая развязка предрешена с самого начала, но наступает неожиданно, в котором с удивительным упорством каждый "играет свою роль до конца", исчерпывающе реализуется мотив "злого мира". Он находит полную поддержку и продолжение в трактовке центральных образов спектакля. И вот именно здесь-то, в талантливой игре актеров, выясняется, что мотив этот скрадывает и поглощает объективную оценку героев.
Ж. Владимирская видит идею образа Медеи в справедливом восстании на мир зла. Актриса стремится раскрыть субъективную правду своей героини, которая, если воспользоваться словами самой исполнительницы, "в противоположность бездумному и примиренному "да" говорит решительное "нет" успокоенности, восприятию жизни без страданий".
Актриса играет свою Медею непримиримой к миру трагической страдалицей, делает ее "Медеей плачущей", ибо искренне считает, что "мера ее страданий становится укором всем, оставшимся жить". Для нее Медея— это, в сущности, парафраз на тему Антигоны. Эта "маленькая и нежная", "взыскательная и чистая" девочка "всегда оставалась такой". Ведь мечтает же она в глубине души, "чтобы в мире царствовали свет и добро"! Монолого восставшей на мир "девочке Медее", ставшей "добычей богов", то есть самого этого мира,— ключ к образу, созданному актрисой, вершина ее игры и кульминация страданий ее героини. Актриса воспринимает душевный мир Медеи, противопоставившей себя людскому сообществу и отставленной от человечности, как результат смятенности ее сознания (Ануй ей, впрочем, в этом помогает—поэтической невнятицей, фрейдизмом). Злодействаже Медеи в трактовке актрисы — это месть миру зла. Тем самым снимается объективная оценка анархического бунта Медеи, его трагические последствия для самой личности.
Метаморфоза, происшедшая в спектакле с Медеей, выразила сущность прочтения театром ануевской трагедии — противопоставление правого героя во всем виноватому миру. Она же определила те изменения, которые претерпевает в спектакле образ Язона. Если Владимирская, условно говоря, попыталась сблизить ануевскую Медею с Медеей еврипидовской, то Д. Гаврилов увидел своего Язона сочувствующими глазами Сенеки.
Актер воспринял стремление своего героя к "счастью, простому счастью" прежде всего как осознанное сопротивление индивидуализму Медеи, которая для него воплощает хаос и мрак мира (и опять-таки нашел поддержку у Ануя). Для его Язона существует одна Медея — уверенная в том, "что надо всюду шарить окровавленными руками, душить и отбрасывать все, что удалось схватить" (Язон), знающая, "что платить приходится наличными, что любой удар хорош и что надо без колебаний самой постоять за себя" (Медея).
Другое дело, что в мире, "в котором нет ни разума, ни света, ни покоя", стремление Язона к счастью осуждает героя на смирение, обрекает "делать то, чем занимался его отец, и отец его отца". Тут бы актеру и раскрыть вину своего героя, показать его несостоятельность, нищенскую природу счастья, которого он домогается. Но этого не происходит.
Д. Гаврилов показывает своего Язона односторонне — страдальцем, готовым заплатить любую цену, чтобы "расчистить местечко для человека среди этого мрака и хаоса", субъективно правым искателем счастья, ставшим жертвой обстоятельств...
В том, что в спектакле оказываются правы оба героя, нет ничего удивительного. Театр попросту отказывается от сопоставления их позиций, настаивает на единстве судьбы героев, одинаково обреченных на гибель. В прочтении Львова-Анохина Медею и Язона роднят страдания и они же противопоставляют их персонажам второго плана— Кормилице, Стражнику. Таким образом концепция спектакля дополняется конфликтом "мыслящих страдальцев" и всем довольных обывателей.
И вспоминается, что и в "Антигоне", предшествовавшей "Медее" на сцене театра, субъективные мотивы образов Антигоны и Креонта не были обойдены вниманием. Сомнения героини ("Креонт был прав..."), драматизм судьбы героя, чей образ, созданный Е. Леоновым, вышел в спектакле на первый план, прозвучали в нем очень отчетливо, даже резко. И следствием этого явилась двойственность оценки противников, камерное звучание талантливого спектакля...
И в том, и в другом случае театр стремился постигнуть сложность произведений. Только ведь понять—это еще не значит истолковать, второе из первого прямо не вытекает. Истолковать—значит выявить живую связь произведения с действительностью, раскрыть его объективный смысл. Но и понять—даже если не до конца — это тоже не мало. И потому спектакль Театра имени Станиславского поучителен и плодотворен.
(Миф и реальность // Театр. 1968. №3).
П.О.К. Бомарше. "Безумный день, или Женитьба Фигаро"
Театр сатиры. Москва,
июнь 1969 г.
"Что за человек! В нем соединяется все: шутка, серьезность, основательность, веселость, сила, трогательность..."