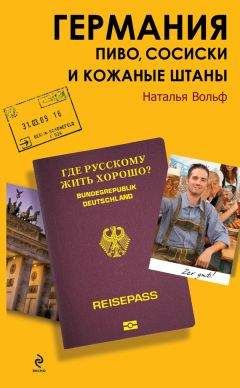Григорий Амелин - Миры и столкновенья Осипа Мандельштама
Отказ от вечной иглы связан с желанием умереть, которое в свою очередь вызвано неудачей в любви. Но и сочиненные стихи не только не освобождают от страдания, а удваивают его. В муках рожденное слово оказывается чужим. Пусть оно и принадлежит великому классику, оно бесплодно и оскорбительно для оригинальной бендеровской натуры. Бендер – не постмодернист, он хочет своего страдания и своего слова. Но разрывающийся между авторским присвоением и убогой цитацией, Бендер не прав. Это ложная дилемма. Извечная бендеровская самоирония заставляет подозревать, что и герой в нее не верит. Тот, кто в стихотворном тексте вспоминает чудное мгновенье со всеми вытекающими отсюда последствиями, – не Пушкин, а поэтическое “Я”, “говорящее лицо” (Тынянов). Значениями этого поэтического “Я” могут быть Пушкин, Бендер и любой другой возможный читатель, для которого истинно высказывание “Я помню чудное мгновенье…”. Барт говорил, что в тексте нет записи об отцовстве. Сурен Золян, проанализировавший пушкинский нокаут Бендера, заключает: “…Само произнесение слов “ Я помню чудное мгновенье” переносит меня из моего мира в мир текста, и я, произносящий, становлюсь я-помнящим. ‹…› Я не становлюсь Пушкиным в момент произнесения его слов, но я и Пушкин становимся “ говорящими одно и то же” ”.
Игла примуса – пиротехническая и пародийная ипостась Адмиралтейской иглы. Примус – атрибут и эмблематическое выражение поэтического первенства, как в описании Маяковского у Пастернака. Игла примуса появлялась в “Я пишу сценарий” Мандельштама: “Вещи должны играть. Примус может быть монументален. Например: примус подается большим планом. Ребенка к чорту. Все начинается с погнувшейся примусной иголки (тонкая деталь). Иглу тоже первым планом. Испуганные глаза женщины. Впрочем, лучше начать с китайца, продающего примусные иголки у памятника Первопечатнику” (II, 457-458). Зная, кому принадлежит Первопечать русской поэзии, нетрудно догадаться, что речь идет о памятнике Пушкина на Тверском.
По плану Анненского раздел “Разметанные листы” “Кипарисового ларца”, куда входит “Среди миров”, должно было открывать стихотворение в прозе “Мысли-иглы” с эпиграфом “Je suis le roi d’ une t? nebreuse vall? e” (Stuart Merrill) – “Я король сумрачной долины” (Стюарт Меррилль) (фр.):
“Я – чахлая ель, я – печальная ель северного бора. ‹…›
С болью и мукой срываются с моих веток иглы. Эти иглы – мои мысли. ‹…›
И снится мне, что когда-нибудь здесь же вырастет другое дерево, высокое и гордое. Это будет поэт, и он даст людям все счастье, которое только могут вместить их сердца. Он даст им красоту оттенков и свежий шум молодой жизни, которая еще не видит оттенков, а только цвета.‹…›
Падайте же на всеприемлющее черное лоно вы, мысли, ненужные людям!
Падайте, потому что и вы были иногда прекрасны, хотя бы тем, что никого не радовали…” (30 марта 1906, Вологодский поезд).
“Вершина башни – это мысли”, – по словам Хлебникова, вскрывающего недостающее звено метафоры Анненского “мысль-игла”. У французского поэта английского происхождения Стюарта Меррилля строки “Я король сумрачной долины” не обнаружено. Но по-английски “merrily” – это “весело, оживленно”.
Как эта улица пыльна, раскалена!
Что за печальная, о господи, сосна!
– Так начинается еще одно патерналистское стихотворение Анненского. Называется оно “Нервы” и имет подзаголовок “Пластинка для граммофона”. На балконе небольшого дома семейная чета Петровых ведет отрывочный и странный разговор. Оба нервничают, им мерещится сыщик, оба сильно взбудоражены пропажей кота, сжиганием в печке при кухарке какой-то нелегальной тетради, приходом дворника и почтальона. Их бесконечно прозаическую, под мотанье шерсти, супружескую перебранку прерывают уличные выкрики разносчиков мелочного товара – морошки, шпината, гребенок, “свежих ландышов”, “свеженьких яичек”. Убогие, пыльные, печальные будни обывателей. Замкнутость этих людей в тесном пространстве собственного мирка, в стенах не дома даже, а домка, выключенность из современности, передает спираль грампластинки, где игла неотвратимо притягивается к центру, нет, не оси мира, а – к “балкончику, прилаженному над самой клумбочкой”. Пропавшая кошка – геральдическая особенность этого дома. Инфантильный кошкин дом. На это откликнется Мандельштам: “Ведь есть же на свете люди, которые ‹…› к современности пристегнуты как-то сбоку, вроде котильонного значка. ‹…› Им бы всю жизнь прожить где-нибудь на даче ‹…›, разговаривая с продавцами раков и почтальоном” (II, 473).
Но при чем здесь “пластинка для граммофона”? Непрерывно вращающийся, как моток гаруса, разговор хозяев, ждущих расплаты за мифическое соучастие в чем-то крамольном и непонятном, крики продавцов, ждущих оплаты своих услуг, весь замкнутый круг существования напоминает граммофонную пластинку с жгучей псевдоцыганской тарабарщиной жестокого романса.
V
…Ибо жизнь есть тоже художественное
произведение самого творца, в окончательной
и безукоризненной форме пушкинского стихотворения.
Ф.М.Достоевский. “Подросток”
В набоковском Адмиралтейском рассказе есть будничное и неприметное описание зимней экипировки героини: “Я вижу ее снова, в котиковой шубе, с большой плоской муфтой, в серых ботиках, отороченных мехом, передвигающуюся на тонких ногах по очень скользкой панели, как на ходулях…”. Прозаическое описание обуви героини заслуживает особого внимания. Слишком часто эти милые ботики стали расхаживать в русских стихах, неспроста, конечно. Прафеноменальный исток их – все та же Адмиралтейская игла. Неопознанными паззлами русские поэты слагают огромную мозаику детской поэтической игры пушкинианского братства.
“Третий удар” поэмы Михаила Кузмина “Форель разбивает лед”:
Как недобитое крыло,
Висит модель: голландский ботик.
Оранжерейное светло
В стекле подобных библиотек.
‹…›
Как тает снежное шитье,
Весенними гонясь лучами,
Так юношеское житье
Идет капризными путями!
Как и “подростковость” “Полярной швеи” Пастернака, “юношеское житье” Кузмина – достоевского свойства. “Подросток” Достоевского – одно из основных произведений Петербургского текста русской литературы. “Подросток” значим еще и тем, что Поиск Отца – важнейшая тема отечественной словесности. Мать подростка – швея Софья, а отец – “истинный поэт”, “великий мастер”, “сокровище силы”, носящий “в сердце золотой век”, – Версилов (или как он фигурирует в романе во французской транскрипции – Versiloff), то есть Отец Стиха, Vers’ илов (XIII, 455, 57, 229, 388). Такое метапоэтическое истолкование романа не покажется слишком странным, если иметь в виду высказывание Анненского в его “Речи о Достоевском”: “…Значение Достоевского заключается в том, что он был истинный поэт”.
Возвышенный прообраз прозаической обуви – ботик Петра Великого. В “Торжественном дне столетия от основания града св. Петра мая 16 дня 1803” Семена Боброва:
Досель страшались робки боты
Предать себя речным водам,
А ныне ополченны флоты
С отвагой скачут по морям;
Кипящу бездну рассекают,
Хребет царя морей нагнув,
И, звучны своды вод давнув,
Пучину славой наполняют.
Но кто виновник их побед? –
Сей ботик, – их почтенный дед…
Адмиралтейский парусник той же модели. И модель эта уже была задана Кузминым в “Нездешних вечерах” и называлась “Лодка в небе”. Раздел кузминского поэтического сборника состоял из тринадцати стихотворений разных лет и начинался строками:
Я встречу с легким удивленьем
Нежданной старости зарю…
Свое “чувство Адмиралтейства” Набоков передает всеми синонимами “удивления”, admiratio – “изумлен”, “ошарашен”, “диву даюсь”, вплоть до “Увидев почерк мой, вы, верно, удивитесь…”. Кузмин разделяет это философическое чувство восхищения. “Лодкой в небе” повисает молодой месяц, дающий трепетные уроки шитья:
Вести расчисленную нить,
На бледных пажитях мерцая!
“Второе море это небо…”, – говорил Хлебников (III, 209). Еще одна лодка “об одном крыле” плывет по облачному небу в “Сестре моей жизни” Пастернака:
Ты так играла эту роль!
Я забывал, что сам – суфлер!
Что будешь жить и во второй,
Кто б первой ни совлек.
Вдоль облаков шла лодка. Вдоль
Лугами кошеных кормов.
Ты так играла эту роль,
Как лепет шлюз – кормой!
И, низко рея на руле
Касаткой об одном крыле,
Ты так! – ты лучше всех ролей
Играла эту роль!
(I, 123)
Набоковская строка “Я предаюсь незримому крылу…” звучит невольным эпиграфом к этому пастернаковскому опусу. Но скрябинский ученик выбрал иной. Эпиграфом к разделу книги, включавшему это стихотворение, служила строка из Верлена: “Est-il possible, – le fut-il?” (“ Возможно ли, – было ли это?” ). Тщетно пытали Елену Виноград, которой была посвящена книга, – она ничего не опознавала в поэтической канве и куда более “реальных” стихов. Ну конечно, в ее жизни ничего подобного не было. Первая роль игральной Музы Пастернака принадлежит Игле-швее. Вторая – звучащему роялю с открытой крышкой – парусным крылом (одним-единственным!). Крыло рояля в виде паруса (и рояль в виде корабля) появились задолго до Пастернака. Образ актрисы-лодки – за пределами возможного, но он есть. Поэзия, как и философия, есть мышление на пределе и за пределом. Но таков способ ее существования. Много позднее Марине Цветаевой будет легко (и безумно трудно для нас) в изумительном эссе “Мать и музыка” (1935) описывать рояль как пушкинианское зеркало: “И вот, с самого темного дна, идет на меня круглое пятилетнее пытливое лицо, без всякой улыбки, розовое даже сквозь черноту – вроде негра, окунутого в зарю, или розы – в чернильный пруд. Рояль был моим первым зеркалом, и первое мое, своего лица, осознание было сквозь черноту, переведением его на черноту, как на язык темный, но внятный. Так мне всю жизнь, чтобы понять самую простую вещь, нужно окунуть ее в стихи, оттуда увидеть” (II, 187-188). Посмотреть оттуда значит посмотреть на себя глазами Пушкина. Увидеть себя негром, окунувшимся в зарю, значит почувствовать Пушкина в себе, пережить его как собственную экзистенциальную возможность: