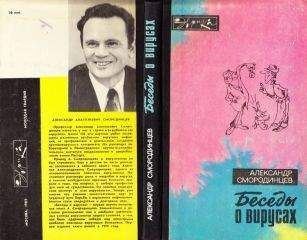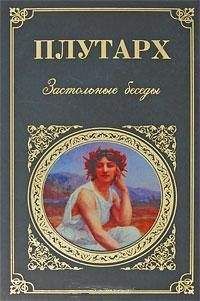С. Евхалашвили - Беседы о режиссуре
Еще в Ленинградский период моей жизни как театральный режиссер я был приглашен в Финляндию для постановки нескольких музыкальных спектаклей. Там обратил внимание вот на какой момент. Если мне не надо было заглядывать в синхронный перевод, чтобы понять происходящее на сцене, значит актеры окончательно сжились с образами своих героев и могут выходить на зрителя.
Подобной «проверкой» я пользуюсь и на телевидении, когда отключаю звук и слежу только за изображением на мониторе. Если актер захватывает и убеждает меня своей пластикой, то это уже определенная гарантия, и можно вслушаться в звуковое решение роли.
Так вот, Зонненштраль прошел все репетиционные проверки и был весьма убедителен во второй, сложнейшей части нашего спектакля. Первая же не вызывала опасений — молодой человек должен был играть своего ровесника. Но вот, однако же, в начало роли Миша как следует и не вскочил. А времени на доработку не было. Тут еще «ветряные мельницы»...
Съемки в павильоне думал делать после натурных. Но они откладывались с весны до осени. Нервничал, ведь мы нашли дом на тринадцатой линии, где, по Гоголю, жил Чартков, и снимать хотелось не только под световым дождем, но и под натуральным снегом. Конечно, поздней осенью это тоже возможно, однако спектакль надо было сдать в январе следующего года. Наконец нам объявили, что в Ленинград мы вообще не поедем и либо должны все отснять в павильоне, либо отказаться от постановки. Отказаться от спектакля, к которому стремился так долго, я не мог. Но все эти бессмысленные препоны, губительное равнодушие к творческим порывам, незаинтересованность в качестве выпускаемой в твоей же редакции продукции убеждало меня в мысли, что «Портрет» — последняя моя работа на телевидении. И я должен сделать все от меня зависящее, чтобы выполнить ее как можно лучше.
Выйти из трудного положения помогли все тот же Стас Морозов и операторы Ю. Исаков и А. Пугачев. Решили сделать большой фотоколлаж с видами Петербурга и, переключая на них камеры, обойтись без натурных съемок. Операторы работали замечательно. Это был, если можно так сказать, союз льда и пламени: Юра, тяготеющий к достоверности, и Саша, удивительно чуткий к телевизионной условности (достаточно вспомнить отснятый им «Фауст» М. Козакова). Я мог полностью на них положиться и, не думая о телекамерах, заниматься с актерами. Мне кажется, что критика справедливо оценила прекрасные съемки Исакова и Пугачева.
И еще одну большую удачу подарил мне «Портрет» — замечательную музыку. Яобратился к Юрию Марковичу Буцко не только потому, что люблю этого композитора, что много и успешно с ним работал, но и потому, что был потрясен его оперой «Записки сумасшедшего». Она поражала не столько своим эмоциональным началом, сколько открытой, острой мыслью: не человек сошел с ума, а мир его окружающий. И, конечно, хотелось, чтобы такой, столь тонко чувствующий Гоголя композитор, писал музыку к «Портрету». Во время нашего разговора о спектакле я рассказал Юрию Марковичу о тех ощущениях, которые испытал при виде скульптуры Андреева, установленной возле дома-музея писателя в Москве. Каждый, кто не поверит мне, может убедиться сам в том, что Гоголь видится разным в зависимости от избранного для осмотра ракурса. Если взглянуть справа, со спины, то в нем есть нечто демоническое. Лицо же Николая Васильевича, тоже справа, смешное и доброе, а слева — грустное. Со спины же, опять-таки слева, перед нами мощная фигура гиганта. Представьте себе мое изумление, когда все это я услышал в музыке Буцко. Она не просто адресована спектаклю. Она имеет отношение ко всему Гоголю.
Как всегда между замыслом и воплощением лежит пропасть неосуществленного. Но от зрителей после премьеры спектакля пришло множество благодарных писем.
Резко отрицательная рецензия появилась в «Литературной России». Главным ее упреком был следующий: раз создатели спектакля не коснулись второй части повести, значит и не раскрыли зрителям Гоголя.
Интересно, что в это же время появилась статья в «Советской культуре», отмечавшая ряд достоинств спектакля и приводящая следующую цитату Белинского: «Первой части... повести невозможно читать без увлечения... в самом деле есть что-то ужасное, роковое... в этом портрете... Прибавьте к этому множество юмористических картин во вкусе г. Гоголя... и вы не откажете в достоинстве этой повести. Но вторая ее часть решительно ничего не стоит». Далее газета писала: «Петербургские красавицы, сановники, военные, человек-орден... Встречи с ними не только вызывают смех, но и заставляют вспомнить знаменитый гоголевский вопрос: «Над кем смеетесь?» и не менее известный эпиграф к его бессмертной комедии. Гоголь призывал каждого пристально всмотреться в себя самого. И разве его призыв не актуален для дня сегодняшнего? Мнимые и подлинные ценности и есть предмет пристального рассмотрения создателей спектакля».
Вот так со времен Белинского рознятся мнения.
И тем более было приятно, что скупой на похвалы Катин-Ярцев, находивший недостатки в «Тевье-молочнике», высоко оценил «Портрет».
А что же в редакции литературно-драматических программ? Мне предложили ставить Достоевского. И хотя вещь желанная, я не дал согласия. Будет ли оно дано? Буду ли вообще что-либо ставить после «Портрета» на телевидении? Да, если... Впрочем, об этом глава иная.
ГИМН ТЕЛЕТЕАТРУ
...«У нас в конторе» — этот оборот, казалось бы, совершенно неприемлемый для творческого организма, можно было услышать в Главной редакции литературно-драматических программ ЦТ. Дань современному жаргону? Но в языке никогда не удерживается то, что не имеет жизненного подтверждения. Однако прежде чем обращаться к каким бы то ни было доказательствам, уместно вспомнить: строчки эти пишу о будущем художественного ТВ. Надежду дают веяния времени и те неоспоримые факты, которые, несмотря на продолжительное затишье премьерных спектаклей, подтверждают возникновение телетеатра.
Его рождение неотделимо от имени создателей, чьи постановки по праву считались событием культурной жизни страны, были предметом споров и обсуждения миллионов.
В. Турбин, П. Резников, А. Эфрос, П. Фоменко, В. Фокин, Л. Хейфец...
Что же удалось сделать первооткрывателям телетеатра? Ответить на этот вопрос, значит и объяснить во многом, почему телеспектакли до сих пор остаются одним из самых сложных жанров.
На протяжении длительного периода работать на студии приходили выпускники ВГИКа, театральных вузов. Своих институтов Одиннадцатая муза не имела. Кинематографисты несли на телевидение близкую им эстетику. Зачастую они не могли поставить телеспектакль потому, что отвергали сценическую условность, не хотели признавать, что правда искусства вовсе не обязана совпадать с жизненным правдоподобием, к которому они стремились, делая художественные передачи по стилистике, колориту столь похожими на публицистические и информационные программы документального ТВ. Ну, а служители Мельпомены? Безусловно, они владели театральной условностью, но терялись перед раскадровкой, крупными планами, игрой деталями. Опережая меня, читатель, должно быть, спешит с выводом: создатели телетеатра сумели объединить законы сцены и киноэкрана. Не только. Иначе бы мы не имели права говорить о специфике Одиннадцатой музы. Нет, они не создали безжизненный гибрид кино и театра, а, следуя собственной интуиции, открыли подлинно новое.
К сожалению, телекритика довольно часто свою задачу видела в том, чтобы эффектно хвалить или ругать очередное произведение, забывая при этом остановиться и поразмышлять над тем, почему же то или иное хорошо или отчего же то или иное плохо. И как результат подобной критики — не появилось глубокое теоретическое обобщение, аналитическое осмысление искусства телетеатра. Слишком мало серьезных статей, книг по этому вопросу.
Мельпомена и кинематограф имеют свои каноны. Художественное телевидение же, прожив добрые тридцать лет, все еще считает себя слишком молодым, чтобы серьезно обдумать содеянное, четко определить пути, с которых следует начинать молодым. Оно все еще каждую свою удачу готово считать случайностью, ставшей возможной благодаря таланту ее создателя. Ну, это же Турбин, поставивший «Портрет Дориана Грея»! Это же Фоменко, экранизирующий Толстого и Пушкина! Это же Резников, ожививший «Плотницкие рассказы»! Это же Эфрос!.. Творческие индивидуальности? Без сомнения. Но талант их заключается еще и в том, что все они, пусть каждый по-своему, открывали общие законы художественного ТВ, законы телетеатра. Обращаясь к экранизации литературных произведений, прибегали к условному оформлению — театр есть театр, хотя одни из них обращались к конкретным декорациям, другие использовали лишь отдельные детали, создающие определенный эмоциональный настрой зрителей. А затем внимание сидящих у домашнего экрана переключалось на актеров. И тут начиналось волшебство Одиннадцатой музы. Помню, что после спектаклей А. Эфроса, особенно после двух его вещей — «Всего несколько слов в честь господина де Мольера» и «Острова в океане», я как режиссер был поражен: знакомые, казалось бы, актеры — Любимов, Дуров, Ульянов, Петренко, Любшин, Гурченко были какими-то совершенно иными. Они жили не законами сцены, не законами кинокадра, а как-то иначе, удивительно точно вписываясь в рамки малого экрана, безгранично расширяя их в смысловом и эмоциональном отношении. Как того сумел добиться постановщик? Это тайна, которую Анатолий Васильевич унес с собой. Но ведь остались пленки со спектаклями Эфроса. Почему бы критикам не попытаться приоткрыть его секреты, обосновать метод?