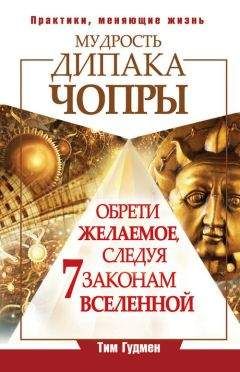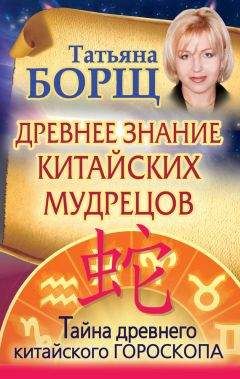Татьяна Григорьева - Китай, Россия и Всечеловек
Действительно, одно дело – «китайская ученость», которая сродни «японской душе», являет ее вторую сторону; другое дело – европейская наука, ранее почти неизвестная в Японии; зато теперь японцы, устремленные ко всему новому, изучали ее с великим энтузиазмом. Но модернизировать Японию на европейский лад оказалось гораздо труднее по причине структурного несоответствия мышления (как не сообразуется линия с точкой: для европейского ума одно есть два – по закону противоречия; для японского кокоро два есть одно – по закону инь-ян).
Трудность заключалась не только в несоответствии образа мышления и представлений об истинно-сущем, но и в том, что японцы, как и китайцы, не уповали на цивилизацию, науку и технику, считая их вторичными, неким подспорьем в практической жизни. [232] Вспомним Чжуан-цзы: древние знали законы меры и числа, вещей и названий, прибегали к учению и сравнению, но считали это уделом низших («Чжуан-цзы», гл 13). Или из 12-й главы: когда огороднику предложили воспользоваться водочерпалкой, он изменился в лице и с насмешкой ответил, что не применяет ее не потому, что не знает, а потому что стыдно. «От своего учителя я слышал: „У того, кто применяет машину, дела идут механически, у кого дела идут механически, сердце становится механическим“. Тот, у кого в груди механическое сердце, утрачивает целостность чистой простоты. Кто утратил целостность чистой простоты, не утвердится в жизни разума. Кто не утвердился в жизни разума, не станет поддерживать Путь». (Ив этом причина кризиса техногенной цивилизации.)
По китайской традиции не наука и техника, а Путь, моральный Закон Вселенной ведет к совершенству. И для японцев во все времена неизменной Основой оставалась Культура, способная преобразить человека, облагородить его. (Это вытекает уже из самого написания иероглифов «культура» – кит. вэнь-хуа: хуа – «меняться к лучшему, приобщаясь к вэнь», изложенной в книгах древней мудрости. У японцев те же иероглифы, только читаются «бунка»: «меняться к лучшему, приобщаясь к Красоте».) Японцы верили, что чувство прекрасного способно преобразить человека, как о том писал ученый XVIII века Мотоори Норинага в сочинении «Драгоценный гребень Гэндзи моно-гатари»: «Как решается в повестях-моногатари, что хорошо, а что плохо в делах людей? Если человек способен проникаться очарованием вещей (моно-но аварэ), способен переживать и откликаться на чувства других, значит, он хороший человек. Если не способен ощущать очарование вещей, переживать и откликаться на чувства других людей, значит, плохой… Повествуя о мирских делах, моногатари не поучают добру и злу, а подводят к добру, пробуждая чувство прекрасного». [233]
Японцы во все времена доверяли чувству в его полноте больше, чем рациональному уму. Об этом пишет и Мурасаки Сикибу в «Повести о Гэндзи», десять веков спустя не утратившей своего очарования: «Человек, глубоко проникший во внутренний смысл вещей, познавший их взаимосвязь, весьма часто приобретает чрезмерную прозорливость, одновременно утрачивая душевную чуткость и изящество ума, что не делает его более совершенным, скорее, наоборот» (перевод Т. Л. Соколовой-Делюсиной). И сам Мотоори Норинага признается в любви к отечеству в танка:
Если спросят:
В чем душа
Островов Японии?
В аромате горных вишен
На заре.
Искусство для них – Путь к Просветлению. Уже основатель буддизма Сингон, Кобо Дайси (Кукай, 774–835), ставил приобщение к естественому ритму выше чтения сутр, веря, что Истина постигается чувством прекрасного. Поэзия, музыка – вот что приобщает к Пути богов, к Разуму Будды. Что же говорить о дзэнских искусствах, национальном достоянии японцев, покоривших мир нынешний! Все дзэнские искусства есть Путь преображения души.
Потому так болезненно переживали японские писатели утрату Основы. «Ныне существует некая философия, или как это там называется… В древности же не было иного пути к познанию истинной сущности вещей, кроме как через сердце человека. Наслаждаясь очарованием цветов, уходя душой в иной мир, слушая ветер и созерцая капли дождя под блуждающей луной, мы проникали в сердцевину единого бытия Природы», – писал поэт-романтик Китамура Тококу.
А несколько лет спустя возопит душа Акутагава Рюноскэ: «Мы утратили дух Середины, чему учил древний мудрец Китая» («Диалог во тьме»). Разучились поступать в согласии с Природой, забыв, что «живем в деревьях, в ручьях, в ветерке, в вечернем свете, упавшем на стену храма» («Усмешка богов»). И оба покончили с собой: Китамура – в 1894 году, Акутагава – в 1927-м. А в 1906 году Окакура Какудзо писал в «Книге о чае»: «Запад считал Японию варварской в то время, когда она занималась мирными искусствами; и он называет ее цивилизованной с тех пор, как она устроила кровавую бойню на полях Маньчжурии… Да останемся мы варварами, если наше стремление стать цивилизованными зависит от позорного прославления войны». [234]
Естественно, не только Китай и Япония настороженно отнеслись к европейской цивилизации, но и Индия. Тагор опасался за участь Японии: «Безобразный дух коммерции проник через море в прекрасную страну Японию… И это угрожает гению нации, это надругательство над лучшим, что сделано и что должно быть сохранено не только для ее спасения, но для процветания всего человечества». [235] Он чувствовал, к чему приведет механизация людей: «Живые умы общества распались и уступили место чисто механической организации, признаки чего видны повсюду… Когда все механичное включается в эту машину в качестве ее частей, то остающийся личным человек сводится к одному только призраку… в машину в качестве частей входят люди, которым теперь не уделяется никакой доли жалости или нравственной ответственности». [236]
Притупилось ли нравственное чувство или исчез иммунитет, но в наше время люди как бы перестали замечать опасность, о которой говорили даосы и которую остро переживали прорицатели в начале XX века от Тагора до Утимура Кандзо. Забыли о разнице между культурой и цивилизацией, о которой столько было сказано в те годы. «Цивилизация возникла как средство, но была превращена в цель. Культура есть средство для духовного восхождения человека, но она превратилась в самоцель, подавляющую творческую свободу человека». [237]
Действительно, цивилизация и культура соотносятся как часть с целым, но в исторической науке до сих пор принимают часть за целое, превознося что-то одно, то «формационный» подход, то «цивилизационный». И так будет продолжаться по «закону части» до тех пор, пока не изменится сознание. Часть никак не может стать целым и через какое-то время уступает место другой части. Но состоящее из частей подвержено распаду, о чем говорил уже Платон и на чем стоит буддийское учение: множество, состоящее из частей, есть иллюзия (майя), от которой человек или освободится, или исчезнет.
И не о том ли книга Шпенглера «Закат Европы» и откликнувшихся на нее философов России? «Культура происходит от культа, она связана с культом предков, она невозможна без священных преданий. Цивилизация есть воля к мировому могуществу, к устроению поверхности земли. Культура национальна, цивилизация – интернациональна… Новое средневековье будет цивилизованным варварством», – возвещал Николай Бердяев. [238] И добавлял: культура органична, цивилизация – механична, первая – качество, вторая – количество. А Федор Степун напоминает: противоположность культуры и цивилизации – главная ось всех шпенглеровских размышлений. «Цивилизация представляет собой… по Шпенглеру, неизбежную форму смерти каждой изжившей себя культуры». [239]
Что касается Японии, то уже в первые годы Мэйдзи возникло движение «за сохранение национальной самобытности». И если можно говорить о высокой технологии Японии нашего времени и об успехах ее науки, то все же это касается прежде всего ее внешней жизни. Ее внутренняя жизнь протекает по традиционному руслу, то отклоняясь от Основы, то возвращаясь к ней в поисках «национальной идентичности». Судя по итогам опросов, уже в 70-е годы большинство японцев предпочли «чистую и правильную жизнь» (в соответствии с «изначальным сердцем» – чистым и правдивым). Опросы 80-х годов показали, что возрождается тяга к традиционному укладу: благоговейное отношение к труду, уважение предков и вежливость – первейший признак культуры.
Выступая на сессии парламента в 1983 году, премьер-министр Я. Накасонэ напомнил о традиции, переданной японскими богами, как незримой силе, определяющей образ мысли и жизни японцев, охраняя их от «разрушительного» воздействия извне. Он справедливо утверждал, что без ощущения национальных корней невозможен и «будущий интернациональный человек». А в докладе 1985 года поднял вопрос о национальной идентичности, истоки которой в священных текстах – Кодзики и Нихонги. Путь Японии – ощущение общества как «единой семьи» (иэ-сякай), «общины друзей» (на-кама-сякай). И в этом причина устойчивости государственной системы: «одно государство – одно сердце» (иккоку – иссин) – отличает Японию от европейской цивилизации с ее индивидуалистической сутью.