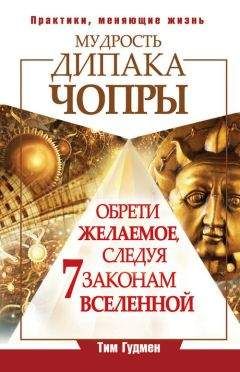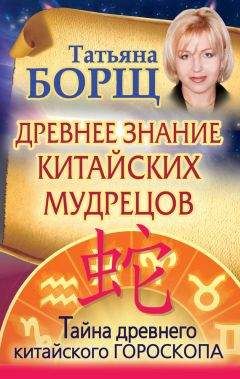Татьяна Григорьева - Китай, Россия и Всечеловек
Естественно, традиционный тип связи не мог не сказаться на характере японского языка. Китайские иероглифы (мужское, янское начало) уравновесились японской азбукой кана (пластичное, женское начало) – по закону двуединства, подвижного равновесия сторон. Иероглифы, дискретные знаки-символы, дополнились вязью японских слогов – в знак единства прерывного и непрерывного. В японской фразе нет главного и второстепенного – все уравновешено, одно не ущемляет другое. Иероглифы и азбука создают единое поле японской культуры, и его воздействие благотворно уже потому, что, когда пишут иероглифы, включается образное, правое полушарие мозга, когда пишут азбукой, работает левое, логическое. Значит, сама письменность располагает к образно-логическому, или гармоничному, целостному мышлению. Иероглифы приучали всматриваться в глубину образа, отличного от буквы алфавита. Эту разницу подметил А. Уоттс: «Мы представляем себе мир в абстрактном, неодновременном переводе, тогда как на самом деле в мире все происходит сразу, одновременно, и конкретное существование Вселенной не поддается описанию нашим абстрактным языком… Линейный, неодновременный характер речи и мышления трудно не заметить в тех языках, которые пользуются алфавитом и выражают свой опыт длинной цепочкой букв». [229] А наш лингвист А. Холодович так характеризует структуру японского языка: «Множество конкретное противопоставляется множеству дискретному … Именно в силу этого оно как бы индивидуализируется и представляет нам множество в образе единицы … Японское имя это слово, в котором отражено единство целого и части, то понимание, где единица и множество если и имеют место, то присутствуют на заднем плане, в тени, „вне светлого поля сознания“. И это – господствующее отношение в японском языке». [230]
Ту же «голографическую» структуру обнаружим в любом виде искусства японцев: в музыке, поэзии, в живописи, в строении японского дома. «Весь дом состоит из совокупности нескольких пространств равной ценности… Общее пространство, несмотря на гибкость и переменчивость частей, остается уравновешенным». [231]
Тот же закон центрированности, неизменного в изменчивом, определяет дух поэзии. По словам Мацуо Басё: «Без Неизменного (Фуэки) нет Основы; без Изменчивого (Рюко) нет обновления». Взаимодействие того и другого рождает живую пульсацию строк: чередование пяти– и семисложных слов. Образец танки (5-7-5-7-7, всего 31 слог) задали небесные боги, и нарушить его – значит нарушить волю богов. Ритмический строй танки остался неизменным до наших дней. И когда примерно с XVI века японцы полюбили хайку (трехстишия), выделив первую строфу танки (5-7-5, 17 слогов), ритм, присущая японскому искусству асимметрия не исчезли. Можно сказать, не число было в Основе, а сочетание нечетных слогов.
Собственно, Центром всегда оставалась Красота, доступная сердечному отклику – кокоро, которое присуще всему и делает все созвучным. Для мастера было главным уловить и передать сердечный ритм того, что поразило его собственное сердце. Как у Басё (в переводе Веры Марковой):
По горной тропинке иду.
Вдруг стало мне очень легко.
Фиалки в густой траве!
Каждое хайку Басё – это прорыв в Небытие, в Красоту Небытия (My-но би), Озарение-Сатори, которое приходит неожиданно и естественно, как распускается цветок («цветок ума», говорят дзэнские мастера). После пережитого Сатори человек преображается, не различает земное и небесное, преисполнен чувством радости и восторга, ощущая мистическую связь Земли с Небом – «Одно во всем и все в Одном». Чувство всеединства порождает чувство все-сострадания: пробужденная душа проникается любовью ко всякой малости, о чем хайку Басё:
Пестик из дерева!
Был ли он сливой когда-то?
Был ли камелией?
И везде асимметрия, порождаемая пульсацией, законом подвижного Равновесия: чего-то больше, чего-то меньше, перетекание энергии от одного к другому, чтобы не прервалось дыхание, живое не стало мертвым. Лишь бы не было подобия, закрытости, заслоняющей Свет. Асимметричны и дзэнские сады, знаменитый сад Рёандзи в Киото: пятнадцать камней разной величины и формы лежат поодаль друг от друга так, что пятнадцатый всегда невидим, откуда ни смотри; кажется, камни ведут безмолвный разговор друг с другом. Так мастер Соами более трех веков назад приобщал к вечности.
И для мастера Но, Сэами (1363–1443), искусство актера в умении передать душу воина, сосны, кипариса – не подобием, а преображением, достигая полного самоотсутствия, «не-я» (муга), «не-мыслия» (мусин). Тогда и откроется то, что изначально в душе каждого, что делает его не похожим и единым с другими. Это и позволяет Сэами сказать: «Есть предел человеческой жизни, но нет предела Но» – человеческой жизни в земном воплощении.
И Тикамацу Мондзаэмон три века спустя, когда горожане задавали тон искусству, предостерегал против ложного правдоподобия: «Искусство находится на тонкой грани между явленным (дзицу) и неявленным (кё)». Тогда и откроется Истина, когда узришь невидимое. Оттого и театр Но, и Кабуки до сих пор привлекают зрителя, и не только в Японии.
Что касается истории Японии, то, конечно, не все шло так гладко, сообразно четырем временам года. Были резкие повороты, как в конце XII века, когда власть перешла к самурайскому сословию. В 1192 году Минамото Еритомо был объявлен первым сёгуном Японии (букв, сэйи – тайсёгун – «великий полководец – покоритель варваров»). И все же императорский двор был оттеснен, но не устранен. Заповеданный японцам Путь не мог быть нарушен, сёгун не мог не считаться с «сыном Неба». То, что исходит от небесных богов, Неизменно. И само самурайство приобщалось к культуре – на самурайскую эпоху приходится расцвет дзэнских искусств, таких как чайная церемония, поэзия рэнга и хайку, искусство садов, театр Но и, конечно, воинские искусства (дзюдо, карате или «путь меча» – кэндо). Не удивительно, что их девизом становится «меч и хризантема» (в переводе на иностранные языки, а японцы на первое место ставят «хризантему»), то есть воинственность должна быть уравновешена благородством и чувством прекрасного. И об этом немало написано, достаточно напомнить книгу Нитобэ Инадзо «Бусидо. Душа Японии», где он показывает, что истоки Бусидо – Пути воина лежат в синтоистской вере и в буддийском пренебрежении к материальному достатку, в благородстве и мужестве. Вряд ли можно усомниться, что Бусидо закалило японский характер, сочетая твердость с состраданием к слабым, о чем пишет У Тимура Кандзо, и не он один.
Традиция каждый раз воспроизводилась, восходя на новый виток, но вертикальная ось оставалась неизменной. Она поддерживала устойчивость системы, несмотря на все потрясения. Япония, страна традиционалистского типа, склонна, однако, к переменам, но таким, которые не противоречили бы ее Пути. Японскую систему можно сравнить с крепким деревом, корни которого столь глубоко ушли в родную почву, что ему не угрожают мировые вихри. Даже если листья опадут, ветви надломятся, корни останутся и дадут новые побеги. Естественно, идеальная модель не так часто претворяется в жизни (потому она и «идеальная»), и в Японии нарушался закон подобающего отношения Верха-Низа, против чего предостерегал еще Сётоку Тайси. Но как только нарушался этот закон, Верх-Низ менялись местами, попиралось все святое, то опрокидывалось Небо и на страну обрушивались бедствия. Япония, умеющая извлекать уроки из прошлого, смиряла свои страсти, возвращалась к Основе, и Равновесие восстанавливалось.
Большие трудности Японии пришлось испытать в середине XIX века, когда под напором мировых держав ей пришлось уступить силе и на какое-то время отойти от Пути. Произошла так называемая «революция Мэйдзи», которую сами японцы называют «Мэйдзи иссин»: «иссин» значит «реставрация» правления императора – «сына Неба» в эпоху «Просвещенного правления», «Мэйдзи». (Я не говорю о восстановлении императорской власти, потому что само слово «власть» не подходит: японский император не властвовал, а воплощал «волю Неба», которая безусловна.)
Самурайская система за прошедшие века исчерпала себя, настало время вернуться к Основе. Но «открытие дверей» после длительной изоляции притянуло Японию к мировым державам, подчинив действию законов капитализма, которому почему-то придают всеобщий характер. И как раньше наиболее проницательные умы предупреждали против чрезмерной китаизации, так и теперь предостерегали против модернизации на европейский лад, возродив девиз «вакон ёсай» – «японская душа – европейская наука». Уже в первые годы Мэйдзи (1868–1912) переводчик на японский «Самопомощи» Смайлса и «Принципов свободы» Милля – Накамура Масанао предостерегал об опасности, которую несет с собой односторонность европейской науки, не уравновешенной Моралью, то есть не знающей Пути. Научное знание, по его убеждению, проникает в законы материального мира, но не может предотвратить падение нравов, как это произошло в Египте и Греции. А чем это кончилось – известно.