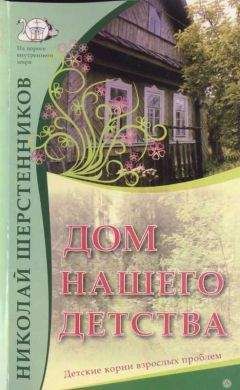Мирон Петровский - Книги нашего детства
Сказка о деревянном человечке тоже носит следы спешки и творческого неуюта — описки, обмолвки, мелкие, не замеченные автором несогласованности. Публикация сказки — под названием «История одной марионетки» — началась в первом номере нового еженедельника «Детская газета», вышедшего в Риме 7 июля 1881 года под редакцией Фернандо Мартини. После сцены повешенья Пиноккио был объявлен конец сказки, но дети, очевидно, не согласились с такой судьбой уже полюбившегося им героя, и автор был вынужден воскресить деревянного человечка. Коллоди продолжал работу урывками, от случая к случаю. Газетная публикация завершилась только в 1883 году, и тогда же вышло первое отдельное издание — «Приключения Пиноккио. История одной марионетки» — с шестьюдесятью двумя рисунками Энрико Мандзанти. К началу XX века сказка, по некоторым сведениям, выдержала около пятисот (!) изданий.
Влияние этой книги на итальянских читателей и писателей огромно — ведь все писатели были некогда детьми, и книга о Пиноккио вошла в их жизнь в числе первых впечатлений. История одной марионетки стала главным мифом детства многих поколений — так сказать, светским мифом, противостоящим официально-католическому. Безоговорочная светскость «Приключений Пиноккио» смущала многих — от фашиствующего библиографа Олиндо Джакоббе, объяснявшего учителям, что книга Коллоди, «где преднамеренно никогда не упоминается о Боге, не может и не должна быть идеальной книгой, которую мы хотели бы видеть в руках у наших детей»[225], до Джан Луки Пьеротти, пытавшегося навязать детской сказке «христологический символизм» (в нашумевшем эссе «Ecce Puer»).
Итало Кальвино писал по этому поводу: «Идея прочтения истории этого детища столяра как аллегории жизни Христа не нова: она была выдвинута в книге Пьеро Барджеллини, вышедшей в 1942 году… Делается вывод, что каждый образ человека и животного, каждый предмет и ситуация в истории Пиноккио имеют свою аналогию в Евангелии, и наоборот: крещение (старик в ночном колпаке выливает таз воды на голову Пиноккио); тайная вечеря (в таверне „Красный рак“); Ирод — это владелец кукольного театра Манджофоко (пожиратель огня) и даже сделанный из хлебного мякиша колпак Пиноккио связывается с причастием»[226].
Итало Кальвино справедливо обвиняет Пьеротти в интерпретационном фокусничестве, основанном, увы, не на одной лишь ловкости рук, и рассудительно заключает: «Единственный возможный вывод — тот, что творческое воображение определенной цивилизации порождает ряд персонажей, которые могут взаимодействовать различным — но не любым — образом, поэтому две занимательные истории обязательно имеют много общего»[227]. Кальвино не оценил парадоксальность материала, который он держал в руках: ведь если соответствия между «Пиноккио» и христианским мифом существуют реально, а не только в разгоряченном воображении истолкователя, то они резко усиливают светский характер детской сказки! В этом случае сказка становится нерелигиозным вариантом тех же образов и ситуаций.
Светский характер сказки должен был привлечь Толстого прежде всего. Герой-озорник, не рефлексирующий, а действующий, сорванец и пострел, был его героем. Интеллигентские игры в религию, тем более в мистику, писатель воспринимал как безвкусно-аляповатое декадентство. Сойдясь отчасти с автором итальянской сказки, Толстой тут же должен был вступить с ним в нешуточный спор.
В споре с Коллоди Толстой выяснял, что есть детская сказка, каким должно быть повествование для детей, из чего и как оно строится. Дело в том, что «Приключения Пиноккио» написаны, «как и большинство произведений детской литературы прошлого века, в заметно устаревшей манере. Но ее содержание, мир ее образов часто разрывают сентиментальную ткань книги и делают ее интересной…»[228] Сохранив почти все сюжетные движения и эпизоды сказки, А. Толстой сделал свою берлинскую обработку в полтора-два раза короче оригинала.
Сказка Коллоди — произведение откровенно и насыщенно морализаторское. Едва ли не каждый эпизод сопровождается пространными моральными сентенциями. Морализирует автор, морализируют его герои — и Карло, и волшебница с голубыми волосами, и сверчок, и белочка, и ворона, и собака Алидоро (прообраз Артемона из «Золотого ключика»), и «таинственный голос», и сам Пиноккио. Их мораль достопочтенна и скучна: бумажные скрижали, сто тысяч мелочных заповедей, назойливое напоминание о том, как следует вести себя бедняку, навсегда согласному с тем, что существуют богачи. У Коллоди морализируют все, у Толстого — никто. Пейзажи Коллоди отличаются от пейзажей Толстого, как треплевское детальное перечисление всех примет ночи от лаконичного тригоринского «горлышка бутылки, блестящего на плотине». Вместо пространного описания ночной грозы — с воем ветра, громом, молнией и прочими бутафорскими эффектами — Толстой вписывает только: «Деревья шумели, ставни хлопали», — и картина тревожной ночи готова.
На каждой странице берлинской переработки Толстой дает уроки лаконизма и динамичности повествования. Эти уроки естественным образом откликаются в образе главного героя: освобожденный от груза сентенциозности, Пиноккио Толстого куда больше озорничает, чем обремененный этим балластом Пиноккио Коллоди. Меняется и авторское отношение к герою: вместо наставничества — любование.
Толстой сохранял и усиливал то, что сделало сказку Коллоди произведением для детей и обеспечило ей грандиозную популярность — повествовательную насыщенность, обилие причудливых эпизодов и фантастических приключений, неожиданных поворотов действия от смешного к страшному и обратно. Сдвинулась вся сказка: обращенная у Коллоди из мира взрослых в мир детей, она под пером Толстого стала приближаться к представлениям детского мира о себе самом.
В сотрудничестве с переводчицей, более похожем на спор, Толстой выяснял вопрос о стиле повествования для детей, попросту — каким языком рассказывать литературную сказку. Каков бы ни был стиль перевода (нам неизвестного), он вытеснялся реалистической живописью Толстого, насыщался бытовыми реалиями и оборотами живой разговорной речи. Правда, полностью вытеснить чужой стиль Толстому тогда не удалось, и в берлинском пересказе нет-нет да и всплывет абсолютно чуждая ему фраза.
Трудно представить себе, чтобы из-под пера Петровской вышли такие простецкие реплики, чарующие своей непосредственностью, а порой и выразительной «неправильностью»: «Значит, это мне просто примстилось» — «Вот дурак беспонятный!» — «Вот так штука!» — «Болтай, пустомеля!» — «Купи? Купишек нет!» — «Нечего зубы скалить!» — «А за то, что не суйся не в свои дела!» — «Стрекнул в кусты» — и так далее. Конечно, от Толстого, а не от переводчицы, чуждой фольклорному стилю, в тексте берлинского издания «Пиноккио» типично русские фразеологизмы, пословицы, поговорки, экспрессивные, еще не остывшие, словно только сейчас из языковой печи выхваченные речения, вроде «одного сшиб пинком, другому устроил „вселенскую смазь“»… — и прочее в этом же роде.
Отведав бурсацкой «вселенской смази», заграничная физиономия «Приключений Пиноккио» не могла оставаться прежней — она немедленно стала приобретать российские черты. Стилистические намеренья Толстого очевидны: перевод итальянской сказки подвергся активной, хотя и не вполне последовательной русификации. Непоследовательность — скорее всего, результат поспешной работы, тем не менее итальянский антураж сказки заметно потускнел и вылинял. Сквозь него стала просвечивать — местами слабее, местами очень основательно — какая-то русская провинция, возможно — городок степного Поволжья, вроде того, в котором прошло детство Толстого, а герои стали смахивать на излюбленных толстовских чудаков, и когда на перекрестке сказочного городка вместо полицейского вдруг возникает городовой — это не кажется ни языковым ляпсусом, ни фактической ошибкой. Нет, на улицах, где звучит такая речь, вполне может выситься фигура отечественного держиморды. Толстой сохранил в своей «переделке и обработке» поступки главного героя, но, погруженные в другую языковую стихию, выраженные в ином стилистическом ключе, они приобрели новый, отличный от прежнего смысл: Пиноккио стал смахивать на Петрушку.
Летом 1917 года А. Толстому случилось увидеть кукольное представление о Петрушке в постановке Н. Я. Симонович-Ефимовой. Влюбленный в фольклор писатель пришел в восторг от этого спектакля и, по свидетельству режиссера, поинтересовался: «Кто писал вам текст Петрушки? Вы знаете, он очень, очень хорошо написан»[229]. Стиль русского народного зрелища и образ его героя определили направление «переделки и обработки» итальянской сказки. «Плебейский», низкий фольклорный жанр оказался носителем того простонародного, несокрушимо здорового начала, которое так импонировало Толстому.