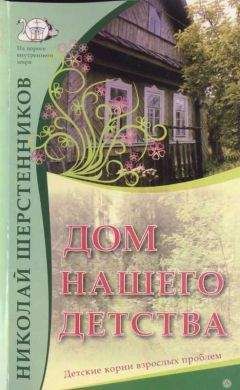Мирон Петровский - Книги нашего детства
Казалось бы, все ясно: и то, почему герой Толстого носит другое имя, и то, почему приключения Буратино так мало похожи на приключения Пиноккио. Названа книга Коллоди и указано, что связь с ней опосредована детским восприятием. Ясен и художественно достоверен образ ребенка — будущего писателя, предающегося творчеству, тогда еще почти бессознательному, в далеком малолетстве. Такой эпизод — мальчик, свободно фантазирующий на тему прочитанной книжки, — вполне мог бы занять место в каком-нибудь рассказе или повести А. Н. Толстого о ребенке, например в «Детстве Никиты»…
Жаль только, что в авторских предисловиях к детским сказкам не принято делать ссылки на источники, — было бы любопытно узнать, по какому изданию читал Толстой («когда был маленький, — очень, очень давно») книжку «Пиноккио, или Похождения деревянной куклы». Жаль также, что Толстой не сообщил нам, на каком языке он читал эту книжку. Итальянским он не владел ни тогда, ни позже, а русские переводы сказки К. Коллоди стали выходить, по авторитетным сведениям, начиная с 1906 года[210], когда Толстому шел двадцать четвертый год и он готовил к печати первую книгу своих стихов, так что ни о каком «чтении в детстве» не может быть и речи.
Едва ли не впервые на русском языке сказка Коллоди — под названием «Приключения деревянного мальчика» — была напечатана на страницах журнала «Задушевное слово» (вариант для младшего возраста) именно в 1906 году, начиная с первого номера. «Можно быть уверенным, что Толстой ознакомился с комплектом журнала „Задушевное слово“ за 1906 г.: ведь в следующем номере, № 2, напечатан рассказ его матери А. Л. Толстой „День проказника“ (с. 28), а на соседней странице — продолжение Коллоди…»[211]
До этой даты знакомство Толстого со сказкой Коллоди просто не могло состояться. Нетрудно показать, что «Золотой ключик» полон отголосков событий, случившихся в те годы, когда автор давно уже вышел из младенчества. Эти отголоски никоим образом не могли присутствовать в детских вариациях на тему сказки Коллоди. Предисловие Толстого к «Золотому ключику» — авторская легенда о происхождении сказки, маленькая мистификация сказочника.
Мистификацию, насколько мне известно, заподозрил только один читатель. Правда, этим читателем был Ю. Олеша. Предисловие к сказке о Буратино привело в восторг автора сказки о трех толстяках. «Мне кажется, что это замечательно!» — воскликнул он и добавил: «Выдумано ли это Толстым или так и было на самом деле, — это роли не играет…»[212] Ю. Олеша допускал выдумку, ибо понимал, что предисловие к сказке — это часть сказки, а правдивость сказочных событий не проверяется на бытовом языке — прямым накладыванием на события реальные.
Толстой пошел на мистификацию, чтобы на собственном языке сказки объяснить, как, в каком ключе следует ее читать. Писатель снял надпись о «романе для детей и взрослых» и заменил ее предисловием — текстом, трактующим о том же, но по-другому. Предисловие Толстого к «Золотому ключику» — это авторское истолкование жанра, развернутое жанровое определение, жанровая установка. Двойная адресация сказки заложена в ней как творческий метод.
Потому-то и поверили, потому-то и не заподозрили мистификацию, что сказочная повесть о Буратино рассказана в полном соответствии с предуведомлением писателя. Но особенности его сказочного повествования — плод расчетливого художества, а не наивной детской памяти. Предисловие сдвигает читательское восприятие целенаправленно. В чем же эта цель и это направление?
Нетрудно заметить, что предисловие стремится как бы затушевать, ослабить, стереть подлинную дату создания сказки -30-е годы XX столетия — и датировать ее, пускай даже условно, концом XIX века, когда писатель был маленьким. Эту вымышленную, условную, но настойчиво предлагаемую автором дату следует учесть и запомнить. Она так же важна, как и другая знаменитая дата — 22 июня 1941 года, — завершающая трилогию «Хождение по мукам». Обе датировки сравнимы по своей художественной функции, обе требуют не столько историко-литературного или биографического, сколько — и прежде всего — собственно эстетического истолкования.
Почему автор так настаивал на ретроспективном переносе даты своей сказки — вопрос особый, и к нему еще придется вернуться.
IIВ 1924 году в Берлине вышла на русском языке книга К. Коллоди «Приключения Пиноккио». Книгу выпустило издательство «Накануне» — орган тех русских эмигрантских кругов, которые ратовали за возвращение на родину и мыслили себя как бы уже накануне возвращения. На титуле этой книги стояло: «Перевод с итальянского Нины Петровской. Переделал и обработал Алексей Толстой». Именно с этой книги начинается подлинная, не легендарная история «Золотого ключика».
Эта книга напоминает о том, что между итальянским оригиналом Коллоди и классическим произведением русской литературы для детей следует поместить текст, созданный посредником-переводчиком. Алексею Николаевичу было не в диковину работать в соавторстве, и кого только не было — и тогда и позже — среди его соавторов! Все лучшие произведения Толстого — создания личного творчества; его литературные работы, выполненные в соавторстве, тем замечательнее, чем выше доля участия в них Толстого; даже самые удачные из этих работ остались, в общем, на периферии его творчества; тем не менее было в коллективном, компанейском, артельном труде что-то неизменно привлекательное для писателя.
Быть может, со временем архивные документы помогут восстановить во всей полноте историю берлинского издания «Приключений Пиноккио». Но и сейчас эта история реконструируется с высокой степенью вероятности. Тут на помощь приходит прежде всего стилистический анализ. Зная, с одной стороны, стиль и творческие принципы А. Толстого, с другой — стилистические возможности Н.Петровской, нетрудно заключить, что уже самый ранний из подписанных Толстым вариантов переработки итальянской сказки — по сути толстовское произведение. Если бы строки, написанные А. Толстым и написанные Н. Петровской, были набраны в берлинском издании разными шрифтами, то и тогда этот вывод не был бы очевидней.
Имя Нины Ивановны Петровской (1884–1928) мало что говорит нынешнему читателю. Современники знали ее как писательницу из круга символистов и человека бурной трагической судьбы. Ее брак с владельцем издательства «Гриф» С. А. Соколовым (писавшим под псевдонимом С. Кречетов) оказался неудачным и непродолжительным. Страстный порывистый характер бросал ее от одной привязанности к другой. «Роковая возлюбленная» Белого и Брюсова, она стала заметной, более того — знаковой фигурой в символистской среде, исповедующей «жизнестроительство» — романтическую попытку преодоления противоречий между жизнью и искусством. Знаменитый, ритуально цитируемый пассаж Вл. Ходасевича о символистском жизнестроительстве содержится, не забудем, именно в его очерке о Нине Петровской — «Конец Ренаты». Современники без труда разглядели в образе Ренаты из брюсовского «Огненного ангела» черты Нины Петровской, а в перипетиях литературного романа — ситуации романа жизненного.
Тяжело больная, она в 1911 году покинула Россию (вместе с маленькой сестрой, тоже тяжко больной) и поселилась в Италии. Здесь Н. Петровская дошла до края нищеты и отчаяния[213]. В 1921 году она писала А. С. Ященко в Берлин: «Сейчас мне неотвратимо и неизбежно нужна работа. Здесь ее иметь почти невозможно… Я решаюсь в память наших былых добрых отношений обратиться к Вам. Не могли ли бы Вы достать для меня какие-либо переводы (итальянским яз(ыком) я владею в совершенстве) и, быть может, хотя небольшую газетную работу…»[214] В следующем 1922 году в надежде на литературный заработок она приехала в Берлин и просила Толстого, своего давнишнего знакомого, способствовать изданию ее переводов. Вот тут-то сказка Коллоди и появляется впервые в биографии автора «Приключений Буратино».
Писательница весьма скромных возможностей (хотя В. Брюсов, например, полагал иначе), Нина Петровская ко времени приезда в Берлин стала превосходной журналисткой. С конца 1922 года на страницах газеты «Накануне» стали появляться ее антифашистские репортажи и памфлеты — «Рим», «Муссолини-диктатор», «Муссолини и terra incognita». Ее стиль окреп, избавился от символистских излишеств и дамского рассусоливания, обрел выстраданную четкость и определенность. Ее отклики на текущую русскую литературу — на книги В. Пяста, М. Шкапской, В. Фигнер, С. Подъячева, А. Амфитеатрова, Ф. Сологуба и А. Н. Толстого — отмечены демократизмом, глубиной и вкусом.
Вся рецензия Петровской на книгу стихов Н. Крандиевской «От лукавого»[215] ориентирована на Толстого — не потому лишь, что рецензентка с уважительным сочувствием воспроизводит строки поэтессы, посвященные Толстому. Нет, в духе А. Н. Толстого, как сделал бы он сам, рецензентка противопоставляет стихи Крандиевской неприемлемому футуризму — с одной стороны, а с другой — уже преодоленному (вернее — преодолеваемому) символизму. В рецензии на альманах «Наши дни» Петровская отмечает, что многие современные произведения «носят несомненные следы сильного влияния А. Толстого»[216]. С творчеством писателя она связывает надежды на будущее русской литературы: «Огромные преодоления Алексея Толстого, каждой строчкой распинающего „канунную литературу“… — разве все это уже не колокольные звоны грядущего искусства?»[217]