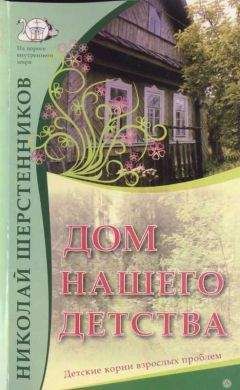Мирон Петровский - Книги нашего детства
Острота пародий «усреднена», притуплена, если не вовсе снята тем, что пародии исходят как бы не от автора, а от Рассеянного. Они приписаны герою, отнесены на его счет и входят в характеристику образа намеком на то, что в литературном багаже Рассеянного царит такой же беспорядок, как в багаже пассажирском. Но самый факт наличия литературного багажа у такого, казалось бы, простоватого героя подтверждает: перед нами — артист, художник, поэт эксцентрического жанра.
Некогда было остроумно замечено, что из всех многочисленных героев Шекспира его произведения мог бы написать только Гамлет (да еще, пожалуй, Горацио). Из всех героев Маршака только один мог бы выступить в роли автора маршаковских произведений: Рассеянный.
VIIIПервое издание книжки «Вот какой рассеянный» вышло в 1930 году (М., Госиздат) тиражом в 20 000 экземпляров. В том же году вышло и второе издание — тем же тиражом. В следующем, 1931 году вышло еще два издания — третье и четвертое — по 50 000 экземпляров каждое. Казалось, книжке предстоит легкая и счастливая судьба. Тем более что замечательное стихотворение Маршака проиллюстрировал Владимир Конашевич — уже и в ту пору признанный мастер книжной графики.
Впрочем, «проиллюстрировал» — крайне неточное слово. Правильнее было бы сказать — превратил в книгу. Работа Маршака и Конашевича не расслаивается, как вода и подсолнечное масло, но образует органическое единство, которое и есть — книга, совместное произведение двух мастеров. Маршаку вообще необыкновенно везло в этом смысле — художники его книг были не «обслуживающим персоналом», но соавторами.
«Вот какой рассеянный», напечатанный в собрании сочинений Маршака, — совсем не тот, что в книжке Конашевича, хотя текст совпадает до запятой. Художник проиллюстрировал почти каждое двустишие, так что любые две строчки стихотворения и рисунок к ним превращаются в некое подобие кинокадра, а книжка — в ленту диафильма. Этим была резко подчеркнута повествовательная, событийная основа стихотворения, диалектика прерывистости и непрерывности, дробности и целостности. Одновременно усилилась и характерологическая основа образа героя, потому что на каждую маршаковскую деталь нелепого, «перевернутого» мира Рассеянного приходится два-три и больше графических «перевертышей», добавленных Конашевичем. Чем обобщенней текст поэта, тем конкретней «текст» художника.
Маршак просто сообщает, что «Жил человек рассеянный / На улице Бассейной», а Конашевич наполняет находящееся по этому адресу жилище густой атмосферой «рассеянности». Он начинает с буквально перевернутой — висящей вверх ногами — картины на стене, изображает башмак, стоящий на стуле, а свечу под стулом (другой башмак отыскивается на комоде), шумовку, висящую на вешалке рядом с какой-то одеждой, валенки на туалетном столике, самого Рассеянного, который лежит в постели «наоборот» — ногами на подушке. Даже табличка с обозначением улицы оказывается не там, где ей положено, а внутри квартиры, — кажется, в прихожей.
Можно было бы сказать, что Конашевич нарисовал комикс, если бы за этим словом не тянулась худая слава. Между тем комикс, понятый как метод конструкции детской книги, — есть не что иное, как идеальная реализация известного принципа, сформулированного Чуковским: «В каждой строфе, а порою и в каждом двустишии должен быть материал для художника, ибо мышлению младших детей свойственна абсолютная образность. Те стихи, с которыми художнику нечего делать, совершенно непригодны для этих детей. Пишущий для них должен, так сказать, мыслить рисунками»[199].
Замечательное соответствие рисунков Конашевича поэтическим образам Маршака точно и последовательно описал Ю. А. Молок. Во-первых, он отметил обобщенность образа героя — у Конашевича в издании 1930 года (и ряда последующих, повторяющих первое без изменений) «не индивидуальный характер, как в позднейшей интерпретации А. Каневского или самого же В. Конашевича (в изданиях 40-х годов)… Это один из обитателей „рассеянного царства“, где все наоборот»[200]. Во-вторых, в беспорядке «рассеянного царства» обнаружилась своя упорядоченность, закономерность: «Действие построено как явный гротеск. Здесь все как будто правдоподобно, форма каждого предмета очень конкретна, но если все водворить на свои места, все тут же рассыплется»[201]. И наконец: неконкретизированное поэтом «пространство» Конашевич использовал для продолжения игры: «Если в стихотворении Маршака Рассеянному только представляется, что движется не трамвай, а вокзал, то художник не боится вообразить невероятное, и мы видим, как здание вокзала покачнулось, у него появились колеса, и вот оно уже несется навстречу застывшему „обезноженному“ трамваю…»[202]
Другой исследователь — Э. 3. Ганкина — считает, что иллюстрации Конашевича к первому изданию «Вот какой рассеянный» стали классикой советской детской книги. Так же оценивается и работа Маршака: «„Рассеянный“ — шедевр поэзии для детей»[203].
Но эти высокие оценки отделены от времени появления книги сорока годами — целой эпохой. В начале тридцатых годов на простодушного Рассеянного обрушивались самые неожиданные удары и обвинения — тем более решительные, чем менее обоснованные. Рассеянный прошел через эту эпоху, сохраняя истовую серьезность талантливого комика не благодаря литературной критике, а вопреки ей.
О «Рассеянном» (в числе других тогдашних вещей Маршака) писали, например, так: «Эти веселые и легко запоминающиеся (благодаря формальному мастерству Маршака) куплеты не преследуют никаких воспитательных, агитационных или познавательных целей. Функция их чисто развлекательная…»[204] Это — один из самых доброжелательных отзывов; вообще же доброжелательство в критике детской литературы почиталось в ту пору чем-то неприличным, чуть ли не распиской в некомпетентности. Критическое суждение становилось похожим на судебное осуждение, и указание на «недостатки» взывало к административному вмешательству, так что от критических наскоков приходилось спасать не книги, а людей. Иногда это даже удавалось.
Случилось так, что книжка Маршака вышла в самый разгар дискуссии о детской литературе. Одним из главных пунктов дискуссии, начатой на страницах «Литературной газеты» и подхваченной другими изданиями, был вопрос о том, следует ли детской литературе быть «серьезной», безулыбчивой и насупленной, или же допустимо, чтобы она время от времени, порой, изредка, иногда чуть-чуть улыбалась, а то даже, страшно вымолвить, и немножко смеялась. Смех казался подозрительным, поскольку он по самой своей природе — антитоталитарен. Многие участники дискуссии (люди разной степени компетентности) находили, что смех детской литературы — свидетельство ее несерьезного отношения к читателю. Эти участники дискуссии зачисляли смех, юмор, игру — в разряд буржуазных пережитков, хотя прямо — так сказать, формулировочно — этого никто, конечно, не произнес. Веселость детских стихов квалифицировалась как буржуазное неуважение («их» неуважение) к нашему пролетарскому ребенку. Так что сказать о «Рассеянном»: «функция его чисто развлекательная» — было далеко не безобидным делом…
Достойно восхищения, что критик, обвинявший «Рассеянного» в «чистом развлекательстве», тут же попытался спасти Маршака. Он спасал Маршака, отделяя поэта от его собственного произведения и перекладывая вину на издателей: «В последнее время Маршак сам отошел от этой своей манеры. А издательства с необъяснимым упорством возвращаются к переизданию явно непригодных его вещей…»[205]
За спасение Маршака вместе с его «Рассеянным», вместе со всем его творчеством взялся Горький. Опубликованная в «Правде» статья Горького «Человек, уши которого заткнуты ватой» отбивала лжепедагогические и псевдосоциальные аргументы защитников «серьезности». Горький писал, что «ребенок до десятилетнего возраста требует забав, и требование его биологически законно». Что ребенок «хочет играть, он играет всем, и познает окружающий его мир прежде всего и легче всего в игре, игрой». Что «тенденция позабавить ребенка» не есть «недоверие, неуважение к нему», она педагогически необходима как средство, как гарантия против опасности засушить ребенка «серьезным», вызвать в нем враждебное отношение к «серьезному». Что «та детская литература, которую создают люди, подобные С. Маршаку, отлично удовлетворяет эту важную потребность, и нельзя позволять безграмотным Кальмам травить талантливых Маршаков»[206].
«Статья Горького, при ее общетеоретической направленности, — считает историк детской литературы, — имела и прямую конкретную цель — защитить работу Гиза»[207]. Того самого Гиза, под маркой которого выходили книги Маршака, в том числе — «Рассеянный». И несмотря на то, что история маршаковской книги этим эпизодом не кончается, рассказ о ее судьбе уместно окончить здесь, потому что с этого момента судьба «Рассеянного» всецело принадлежит его читателям. А читатель у Маршака особенный: