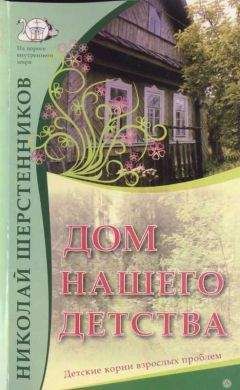Мирон Петровский - Книги нашего детства
Поэтому не очень-то стоит настаивать на «автобиографических» чертах в образе Рассеянного. Для нас не так уж важно, снимал ли Маршак галоши, входя в трамвай, или не снимал. Но для нас чрезвычайно важно, что стихотворение о Рассеянном написано поэтом, все творчество которого — непрерывное доказательство несомненных преимуществ собранности, целенаправленности, дисциплинированности и упорядоченности. У цельного Маршака не было двух программ — «внутренней» для себя и «внешней» для иных прочих. Была одна, обеспечивающая лирическую подлинность его произведений, к какому бы жанру они ни относились. У «Рассеянного», тяготеющего к эпосу и сатире, — несомненная и прочная лирическая основа.
«Рассеянный» — такой же довод в пользу порядка и гармоничности, как все остальные стихотворения Маршака. Рассеянный доказывает ту же истину, что и аккуратный почтальон, деловитый ремесленник, отважный тушитель пожаров, но доказывает ее по-другому. Что-то от рассеянности автора, возможно, попало в образ героя, но не бытовой, не автобиографической стороной, а лирической, направленной на изживание рассеянности, дисгармонии, хаоса. Неверно, будто стихотворение автобиографично потому-де, что Маршак — рассеянный. Оно лирично, потому что Маршак — антирассеянный. Стоило бы обратить внимание вот на что: какими дисциплинированными, вышколенными, великолепно организованными стихами воспел Маршак своего недисциплинированного, дезорганизованного, расхлябанного и рассеянного героя!
Все жанры обширного литературного репертуара Маршака были своеобразными заменами лирики, от которой Маршак уклонялся по причинам лирического свойства — из присущей ему неприязни к излишней интимности лирики, из опасения заслонить собой, лириком, объективную картину мира. Стремясь соблюсти драгоценную для него меру объективности и будучи не в силах преодолеть лиризм, неотъемлемо присущий художнику, Маршак создавал жанры, уравновешивающие, «усредняющие» лирику и эпос, лирику и драму, лирику и критику, лирику и перевод. Эпичность «Рассеянного» — метафора его лиричности, как всегда и везде у Маршака.
Не потому ли Маршак умалчивает о профессии героя, что она совпадает с профессией автора, — поэта, склонного к эксцентрике и жестко ограничившего автобиографичность своей лирики? Не потому ли Рассеянный — единственный герой Маршака, изображенный вне профессии, вне трудовой деятельности, что совершаемые им чудачества и есть его профессия, его работа? Один заставляет реку отдавать свою энергию людям, другой наводит блеск на ботинки, третий спасает создания рук человеческих от огня, четвертый доставляет корреспонденцию точно по адресу, и все они, враз или врозь, служат упорядочению окружающей человека среды, а Рассеянный включается в эту работу, доказывая — способом от противного — ее необходимость, и, сверх того, необходимость «упорядочения» самого человека. Деятельность героя изображена, но не названа.
Рассеянный — не антипод маршаковских тружеников, он их идеолог, художник, созидающий на языке искусства тот же мир, который они созидают трудом. Под маской Рассеянного скрывается артист, поэт эксцентрического жанра, парадоксальный двойник строгого и дисциплинированного Маршака.
Противоречие между обаятельностью героя и его поведением, ломающим рамки общепринятых норм, — вот та загадка, которая мучила читателей, заставляя их задавать автору «наводящие» вопросы, мучила художников, не знавших, как относятся к Рассеянному свидетели его чудачеств, и критиков, недоумевающих, как им быть со столь странным героем. Привыкшая к тому, что детская литература предлагает своим читателям либо положительного героя (пример для подражания), либо отрицательного (пример для отталкивания и расподобления), критика пыталась применить эти же мерки к Рассеянному.
Казалось бы, ясно: он — носитель хаоса и дисгармонии, он мешает серьезным людям заниматься серьезными делами, наконец, рассеянность вообще недостаток, а потому — зачислить его в отрицательные, и вся недолга. Ведь и автор посмеивается над своим героем. Но тогда почему он такой симпатичный? Может, он положительный? Но ведь автор не зря же посмеивается над ним? Это недоразумение тянулось долго и не закончилось доныне — его отголоски находим, например, в вузовских пособиях по детской литературе. Там Рассеянный до сих пор трактуется как образ сатирический, отрицательный. Двойственность образа игнорируется для удобства толкования.
Самого Маршака не слишком волновал вопрос о разделении литературных героев на положительных и отрицательных. Маршак считал, что литературный герой — не электрод, на котором следует ставить знак плюс или минус, чтобы, упаси бог, в темноте не перепутать. По этому поводу поэт высказался с обезоруживающей иронией:
Над страницами романа
Не задумался Толстой:
Кто там — Вронский или Анна —
Положительный герой?
В том-то и дело, что Рассеянный — не «пол.» и не «отр.», он эксцентрик, то есть сатирический объект и субъект-сатирик одновременно, артист, показывающий то, о чем поэт (вроде Маршака, Эдварда Лира или Даниила Хармса) говорит, художник, заменивший эксцентрическое слово таким же делом.
И тут иллюстраторы Маршака оказались проницательней, чем некоторые его критики. Из нескольких вариантов рисунков, созданных В. Лебедевым к маленькой поэме Маршака, лучший, конечно, тот, где герою придано сходство с самым обаятельным эксцентриком в мире — с Чарли Чаплином: котелок и усики, парусящие штаны, нелепые башмаки и тросточка[197]. Между прочим, в одном из рукописных вариантов тросточка имелась и у Рассеянного, и он вертел ее (словесно), как Чаплин — свою: тросточка была «с набалдым золоташником»[198].
На рисунках В. Конашевича (позднейших, тех самых, которые были одобрены К. Чуковским за молодость героя) эксцентрический характер обаятельного чудака проявлен по-другому: у Рассеянного появилась собачонка — смешной и милый песик, показывающий, как надо делать, когда Рассеянный делает не так. Рассеянный, скажем, пытается натянуть на ногу перчатку, а песик, подсказывая правильное решение, несет в зубах башмак. В. Конашевич буквально воспроизвел ситуации популярных эксцентриад: собачка — традиционный напарник циркового эксцентрика.
Двойственность образа проявляется в том, что не только автор с читателем смеются над чудаком, но и чудак, сохраняя истовую строгость лица, смеется вместе с автором и читателем. В поступках Рассеянного явственно ощутим привкус пародии. Было бы в порядке вещей, если бы в стихах о Рассеянном появились литературно-пародийные мотивы. Мне порою кажется, будто известные строки
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки, —
уже спародированные кем-то довольно бестактно:
Я на правую ногу надела
Калошу с левой ноги, —
Маршак пародирует с беззлобной иронией:
Вместо валенок перчатки
Натянул себе на пятки.
Трагическое душевное смятение, выразившее себя в жесте, становится выраженным в подобном жесте смятением комическим. На место перверсии «левое-правое» подставляется перверсия «верхнее-нижнее», вполне соответствующая «снижающей» роли пародии. Другие не менее известные строки:
— Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон! —
быть может, тоже спародированы Маршаком:
Глубокоуважаемый
Вагоноуважатый!
Вагоноуважаемый
Глубокоуважатый!
Во что бы то ни стало
Мне надо выходить.
Нельзя ли у трамвала
Вокзай остановить?
Вместо заблудившегося «в бездне времен» трамвая появляется чудаковатый пассажир, «заблудившийся» в трамвае и в собственной фразе. Трагическая растерянность преобразована в комическую рассеянность, но и в этом, и в предыдущем случае сохраняется фразеология и интонация пародируемого текста при всех «снижающих» переосмыслениях. Любопытно, что пародируются стихи двух поэтов, возникшие в одну эпоху в одной и той же литературной среде. Непосредственное соседство двух пародий, быть может, подтверждает объективность существования каждой из них. Литературно-пародийные мотивы не так уж невероятны в стихотворении, прототипом героя которого был И. А. Каблуков — завсегдатай литературных кружков и обществ начала века.
Острота пародий «усреднена», притуплена, если не вовсе снята тем, что пародии исходят как бы не от автора, а от Рассеянного. Они приписаны герою, отнесены на его счет и входят в характеристику образа намеком на то, что в литературном багаже Рассеянного царит такой же беспорядок, как в багаже пассажирском. Но самый факт наличия литературного багажа у такого, казалось бы, простоватого героя подтверждает: перед нами — артист, художник, поэт эксцентрического жанра.