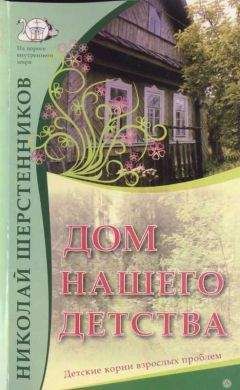Мирон Петровский - Книги нашего детства
В рукописи Маршака первые наброски «Рассеянного» находятся рядом с черновиками стихотворения «Дураки». «Рассеянный» фольклорен ничуть не менее, чем «Дураки», но лишен и намека на стилизаторство: «Эта филигранная работа — образец освоения фольклора без заимствования или повторения фольклорных мотивов»[184], — справедливо заметил Борис Бегак. Кроме того, «Дураки» представляют чисто деревенский, сельский, крестьянский тип простодушного чудачества, а герой «Рассеянного» — сугубо городской.
Это очень хорошо почувствовали и передали художники, иллюстрировавшие Маршака: и у Лебедева, и у Конашевича, и у других Рассеянный предстает чисто городским персонажем, окруженным аксессуарами городского быта. Он просыпается в городской и, по-видимому, коммунальной квартире, так что постоянные «не то!» и «не ваши!» осмысляются в рисунках как замечания соседей, а не родственников. Из городского интерьера Рассеянный попадает на городскую улицу, и приключения его заканчиваются тем, что он никак не может уехать из города!
Значит, переход от «Дураков» к «Рассеянному» сопровождался движением творческой мысли из деревни в город. По счастливой случайности мы располагаем промежуточным вариантом замысла о чудаке: в рукописях Маршака сохранилось стихотворение о некоем Егоре — одном из деревенских «дураков», который, покинув село, попал в Ленинград и стал превращаться в Рассеянного. Здесь была сделана попытка мотивировать чудачества персонажа его неграмотностью: «Вам, неграмотные дети, // Будет худо жить на свете», — гласит «мораль» стихотворного рассказа о Егоре. Еще не написанный «Рассеянный» явственно проступает сквозь строчки этого стихотворения:
1Вот Егор —
Мой знакомый.
До сих пор
Жил он дома.
А попал в Ленинград —
Он и жизни стал не рад.
В Ленинграде улиц тыща,
А какие там домища!
Проживал Егор в квартире
Триста семьдесят четыре,
В доме двести двадцать два
Против церкви Покрова.
Раз он вышел за ворота,
Да и сбился вдруг со счета.
Не нашел пути назад.
Что за город Ленинград!
Две недели
Горевал,
На панели
Ночевал.
Пошел Егор
Покупать топор.
Ленинград
Обошел,
Топора
Не нашел.
Постоял у магазинов,
Рот на вывески разинув.
Много всякого добра,
А не видно топора.
Забежал он в Госфарфор:
— Дайте, граждане, топор.
А приказчики смеются:
— Вам тарелку или блюдца?
Заорал на них Егор:
— Мне не блюдце, а топор!
А приказчики смеются:
— Топоры-то наши бьются!
Тут надо прервать цитирование, потому что в следующей строке появляется названный своим подлинным, хотя и по-бытовому упрощенным именем еще один исторический чудак. Это прославленный человеколюбец, московский тюремный доктор Федор Петрович Гааз, любимый персонаж А. И. Герцена и А. Ф. Кони. С его именем (в маршаковской рукописи он именуется «доктор Газе») в историю Рассеянного вводится еще одна городская легенда о добрейшем чудаке, одном из тех, с кем в XIX веке постоянно связывались анекдоты «чудаческого» цикла. В стихотворении Маршака, предваряющем «Рассеянного», доктор Газе появляется как будто нарочно для того, чтобы засвидетельствовать: творческая мысль поэта все время кружилась около знаменитых чудаков.
Правда, доктор Гааз (Газе) — московский житель и герой московских анекдотов, а действие рассказа о Егорке приурочено к Ленинграду. Но ведь и профессор Каблуков — москвич. Анекдотические чудаки прошлого столетия тем и знамениты, что, отправляясь из одной столицы в другую, все время попадали не туда: вместо Петербурга — в Москву, вместо Москвы — в Петербург. Московский профессор Каблуков становится прототипом героя маленькой ленинградской поэмы. Оказавшись в Ленинграде, Егорка идет на прием к московскому доктору, как герой Вельтмана идет взглянуть на Кремль, не догадываясь о своем пребывании в Петербурге. Появление в рассказе тюремного доктора Гааза, быть может, бросает скрытый свет на приезд Егорки в Ленинград и связывает его с Пястом, вернувшимся в родной город из ссылки:
3Доктор Газе
Дал Егорке
Борной мази
И касторки.
И сказал ему:
— Смотри,
Мазью тело разотри,
А касторку выпей дома,
Перед чаем, в два приема.
После доктора больной
Побежал к себе домой.
Взял касторки половину,
Стал тереть бока и спину,
А потом, благословись,
Начал есть из банки мазь.
После праздничного чая
Ожидал Егор трамвая.
Ждал трамвая номер два,
Что идет до Покрова.
Как подъехала шестерка —
Живо влез в нее Егорка,
До конца не вылезал
И приехал на вокзал.
Говорит он:
— Вот досада,
Привезли куда не надо!
Я не буду дураком,
Да пойду себе пешком[185].
Стихотворение продолжается еще несколькими анекдотическими эпизодами, но и по приведенной части видно, сколькими нитями оно связано со «Львом Петровичем» и «Дураками» — в одну сторону, с «Рассеянным» — в другую. Подобно Льву Петровичу, Егорка ночует на панели и ждет трамвая, а подобно Рассеянному — едет в трамвае «куда не надо». Живет Егорка «против церкви Покрова» — правда, не по соседству с Бассейной. Нужно только, чтобы не чудак удивлялся городу: «Что за город Ленинград!», а напротив, весь город изумлялся, глядя на чудака: «Вот какой рассеянный!»
Так было найдено определяющее слово и мотивировка всех поступков героя — рассеянный. Слово стало стержнем, на который легко — но не слишком ли легко? — стали нанизываться однородные нелепости:
Был рассеян мой сосед.
Натворил он много бед.
[Клал он кошку на кровать.
Сам под стол ложился спать.
Ставил горлом вниз бутылку,
Уносил с обеда вилку,
В суп ронял свое пенсне
И сморкался он в кашне.]
Раз набил он перцем трубку,
А табак насыпал в ступку
И до вечера толок
Вместо перца табачок.
А однажды…[186]
Начав своего «Рассеянного» с попытки дать ему точный — с указанием номера дома — адрес (как у Егорки), Маршак опробовал много вариантов эпизода, подобного покупке топора в магазине фарфора. Можно высказать предположение, что эпизод с Егоркой был для Маршака излишне конкретен: «Госфарфор» и «приказчики» выдают прикрепленность события ко времени НЭПа и ограничивают его возможность продлиться в будущее. Черновики свидетельствуют, что Маршак пытался заменить фарфоровый магазин — писчебумажным и цветочным:
Однажды тот же гражданин
Зашел в [бумажный] цветочный магазин
Спросил его приказчик:
[— Вам роз иль орхидей?
А он ответил: Ящик
…………..гвоздей!][187]
Затем, отталкиваясь, должно быть, от своих недавних «обувных» фамилий (Башмаков и Каблуков), Рассеянный неожиданно стал примерять обувь в цветочном магазине:
Усевшись [в мягком] чинно в кресле,
Он снял сапог с ноги
Потом спросил [он]: Не здесь ли
[Мне шили] [Найдутся] Купил я сапоги?[188]
Этот вариант тоже был забракован, и Рассеянный отправился на телеграф:
Однажды утром он стремглав
[Пошел] Влетел на главный телеграф
[На телеграфном] И там на синем бланке
Он написал: Москва
Садовая гражданке
Марии сорок два
Взглянув на этот синий лист
Захохотал телеграфист[189]
Дальше шел (не сохранившийся в маршаковских черновиках) текст телеграммы, которую собирался отправить Рассеянный:
Сердечно поздравляю
Зернистую икру,
В подарок посылаю
Мамашу и сестру[190].
Эпизод с телеграфом был в свой черед отвергнут, и тогда стал вырисовываться другой — с вокзальной путаницей Рассеянного, тот эпизод, который в своем окончательном виде попал в канонический текст стихотворения:
[Блины у нас в буфете! —
Сказал ему кассир.
— До Клина мне билетик! —
Воскликнул пассажир.]
[Насилу до вокзала
Добрался пассажир
И вымолвил устало
— Послушайте, кассир][191]
Все это было зачеркнуто, и работа продолжалась, пока не были найдены хорошо известные всем строки — простые, звонкие, графически четкие и динамичные: