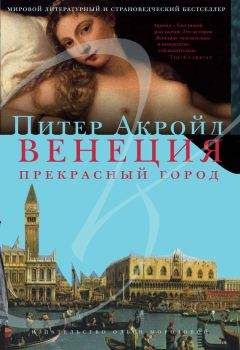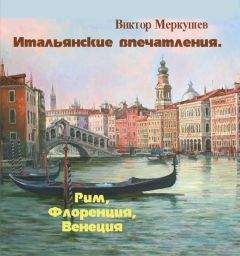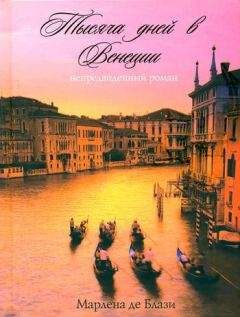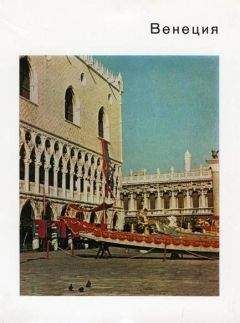Франсуаза Декруазетт - Повседневная жизнь в Венеции во времена Гольдони
Достопочтенные господа! Каждые полгода мы меняем политическое правительство этого города — «великих мудрецов», которые в основном и руководят им. Именно они по первому своему желанию вносят в повестку дня заседания Сената волнующие их вопросы. «Мудрецы», месяц назад покинувшие свои посты, те, кто в течение полугода держали в своих руках бразды правления, в процессе реформы армии отдали приказ образовать новые полки… и тем самым довели численность ее до таких размеров, что превысили цифры, имеющиеся в первом постановлении о регламентации численности постоянного войска. Теперь же все вновь предстоит менять… потому что новые «мудрецы» не хотят, чтобы численность войска превосходила двадцать четыре тысячи человек… Такое положение вещей дает повод для различных дискуссий в Сенате.
Немного позднее, в 1750 г., Гольдони даже осмелился написать откровенно политическую комедию «Льстец», куда он вложил всю свою ненависть к сеятелям раздора и дурным советчикам. В ней он выводит на сцену бездарного и необразованного губернатора, который занимается тем, что вместе со своим поваром составляет десерты, вместо того чтобы заниматься экономическими проблемами находящихся в ведении его ведомства купцов, и позволяет манипулировать собой своему лицемерному секретарю. Местом действия благоразумно избрана Гаэта близ Неаполя, однако «парадный зал с несколькими дверями» во дворце губернатора, воспроизведенный в декорациях на сцене, никого не обманывает. В конце комедии венецианские патриции слышат, как раскаявшийся губернатор со сцены дает им совет: «Все кончено. Не хочу больше ничего знать. Признаю: я не в состоянии отличить хорошего министра от льстеца, поэтому мне лучше будет удалиться и передать дела тому, кто справится с ними».[293]
Равновесие системы было поколеблено. Подобно Амло, делла Торре одновременно с пышной метафорой о «совершенном теле» пишет, что Венеция вступила в свой четвертый возраст, возраст старости, и начало ее старения было положено неприятностями, причиненными Республике Камбрейской лигой в 1508 г. Это убеждение разделяли многие венецианцы. Когда в 1732 г. сенатор Бернардо Нани писал свои «Беседы об истории», он не строил иллюзий относительно вечности Венецианской республики:
Венецианская республика стара. Она просуществовала долго… Граждане ее погрязли в роскоши и отличаются испорченным и развращенным нравом, иначе говоря, не заботятся более об общественном благе, а если кто-нибудь начнет кого-нибудь убеждать сделать что-либо полезное, слова его ни в ком не найдут отклика, и он предпочтет умолкнуть, хотя прежде в Сенате обсуждалось и принималось немало достойных предложений. Возобладали личные интересы, никто не хочет наживать себе врагов, отстаивая общественное благо, никто не хочет ломать за него копья. Молодежь невежественна, занята игрой и развратом и теряет те качества, кои помогли нашим предкам добиться славы для Республики не войнами, но разумом… Прежде даже малоимущие патриции могли изменять ход вещей… Состояние Республики плачевно: кругом беды, друзей нет, денег нет, славы нет, до общественного блага никому нет дела.[294]
Длительное существование Республики более не считается гарантией ее вечности. «Умереть придется, но хотелось бы сделать это как можно позже — вот главная и единственная заповедь нынешнего правительства», — с мрачным юмором заметил в 1664 г., в период войны с Кандией некий безымянный житель Венеции.[295] Старость и ржавчина разъедают Республику, подобно тому как ветхость и сырость разрушают дома. Можно сколько угодно разыгрывать вечность в пышных декорациях каналов и дворцов, но долголетие Венецианской республики, бывшее некогда ее силой, теперь стало ее слабостью.
Correzioni (букв, «поправки», также «реформы») в деятельность существующих институтов в истории Республики достаточно редки, или, говоря точнее, они сильно разнесены во времени. Три correzioni, одна за другой, происходят во второй половине века — на фоне удушенного в зародыше недовольства, вызревавшего в 1741–1755 гг. против деятельности Коллегии, Сената и Совета десяти. Инициатором correzione номер один в 1761 г. стал Анджело Кверини, «адвокат коммуны», член Кваранции по уголовным делам, выступивший против концентрации власти в руках Совета десяти, забравшего себе часть судебной власти, прежде принадлежавшей Кваранции. В 1761 г. Кверини был арестован и заключен в крепость Сан-Феличе; арест его вызвал волнения в народе. Его сторонники — квиринисты вступили в прямое столкновение с противниками реформ — трибуналистами и сумели в Большом совете блокировать выборы членов Совета десяти и инквизиторов. В 1774 г. сенатор Андреа Трон предложил провести реформу и национализировать почтовые станции в Бергамо; однако когда он заодно предложил конфисковать в пользу государства и имущество четырех бенедиктинских монастырей, это вызвало возмущение семейств, которым было поручено проводить реформу. И вновь Кваранции приходят в волнение; на этот раз возмущенные группируются вокруг молодого энергичного патриция Дзордзи Пизани, которого Лоренцо Да Понте, выходец из скромного семейства и настроенный против «сиятельных Панталоне», «пышных париков, не вызывающих ничего, кроме раздражения», с энтузиазмом называет новым «Гракхом Венеции».[296] Затем новое выступление против «мудрецов» и Сената. Менее чем через шесть лет тот же самый Пизани и его друг Карло Контарини, найдя поддержку у вновь избранного дожа Поло Реньера, человека, близкого к квиринистам, выступают против Андреа Трона и заставляют Большой совет отклонить предложение Сената о строительстве ломбарда. Неслыханная победа!
«Трепещите, неправедные патриции!»
«Роскошь, разврат и испорченные нравы» — пессимизм Нани был обоснован. В Венеции шла крупная игра, и не только в загородных домах. Играли в казини, играли в ридотти. Играли даже на баржах. Так, в юности, плывя на лодке в Феррару, Гольдони сел играть в азартную игру с одним молодым падуанцем, пользовавшимся дурной славой; падуанец быстро обвинил его в мошенничестве и даже направил на него пистолет, дабы очистить его карманы от выигрыша.[297] Играли в фараон, в пикет, в испанскую игру ломбер. Страсть к игре сводила с ума. Карло Гоцци, признаваясь, что всегда играл по маленькой и никогда не поддавался тому, что он — в духе цензоров того времени именует «вредной роскошью», тотчас добавляет, что это произошло исключительно благодаря чуду. Другим подобного самообладания дано не было. Казанова усердно посещал Ридотто.[298] Не миновал его и Лоренцо Да Понте. Первая часть его «Мемуаров» является описанием спуска в ад, начинающегося возле карточного стола, от магического притяжения которого он освобождается только решив покинуть «сию крайне опасную столицу».[299] Под его пером возникает захватывающая картина разорившихся патрициев и «барнаботи», лихорадочно толпящихся у игорных столов и буквально на лету хватающих каждый дукат, словно именно он должен стать для них спасительной соломинкой: «Как только я выложил деньги на стол… в дверь постучали. Это был брат хозяйки. Увидев деньги, он, испустив торжествующий вопль, протянул к ним руку, более похожую на лапу хищной птицы, и они тут же исчезли — более половины у него в карманах, а оставшиеся в двух носовых платках».[300] Сам Да Понте относится к тем, кто, растратив все деньги, находит утешение в забвении, отправляясь спать в «комнате вздохов». Сцена поистине театральная. Без сомнения, Да Понте пытается бросить тень на тех, кого он считает подлинными виновниками своих несчастий, тех, кто в 1779 г. дерзнул осудить его на «семь лет мрачной тюрьмы» за распущенность и святотатство. Однако когда в 1771 г. юный Дзанетто Кверини из Мадрида, где он трудится в составе посольства, пишет своей супруге, Катерине Контарини, что карточные долги его возросли до 56 тысяч дукатов и, учитывая повседневные расходы, предусмотренные его должностью, положение его становится поистине критическим, так что, дабы избежать насмешек людей своего круга, ему остается либо наложить на себя руки, либо прикинуться сумасшедшим, — ни о каком театре здесь и речи нет.[301] Гольдониевский Флориндо из «Игрока», снедаемый такой же плачевной страстью, на самоубийство не покушается, но, желая поправить дела, готов жениться на дряхлой старой деве, однако вовремя раскаивается.[302]
Многочисленные меры, принимаемые по ограничению количества игорных домов и контролю над ними, доносы, что, поощряемые Советом десяти, пишут привратники и гондольеры, пытаясь в каждом собрании усмотреть какое-либо подозрительное или безнравственное сборище,[303] и — венец правительственной активности, направленной против игорных заведений, единогласно принятое в 1774 г. решение Большого совета о закрытии игорного дома Ридотто вполне сравнимы с любыми литературными гиперболами. О посещаемости Ридотто ярче всего свидетельствуют цифры: заведение это приносило Республике более 100 тысяч дукатов в год, не считая ежегодных 600 тысяч лир, поступавших в казну от продажи примерно 30 тысяч баут — масок, которые в обязательном порядке надевали при входе. Многие венецианцы, в том числе и Гольдони, считали закрытие Ридотто важной и мудрой мерой, направленной на оздоровление общественного климата и спасение Республики,[304] однако были и те, кто считал, что подобные меры свидетельствуют не столько о заботе властей о будущем, сколько о широком распространении искомого порока и невозможности поставить под контроль игорные страсти.