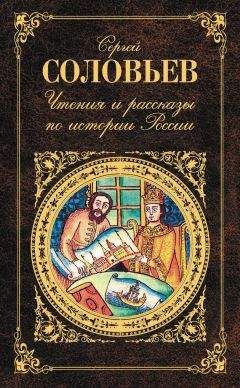Поль де Ман - Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста
Самая фундаментальная из всех «ценностей», принцип непротиворечия, обоснованный принципом тождества, становится целью атаки в посмертно опубликованном фрагменте, восходящем к осени 1887 года:
Мы не можем одно и то же утверждать и отрицать: это субъективный, опытный факт, в нем выражается не «необходимость», но лишь наша неспособность.
Если, по Аристотелю, закон противоречия есть несомненнейший из законов, если он последнее и глубочайшее положение, к которому сводятся все доказательства, если в нем кроется принцип всех других аксиом; тем строже должны мы взвесить, какие утверждения [Voraussetzungen] он в сущности уже предполагает. Или в нем утверждается нечто, касающееся действительности сущего, как будто это уже известно из какого- нибудь другого источника; именно, что сущему не могут быть приписываемы противоположные предикаты [кбппеп]. Или же закон этот хочет сказать, что сущему не следует приписывать противоположных предикатов [sollen]. Тогда логика была бы императивом, но не к познаванию истинного [erkennen], а к положению [setzen] и обработке некоего мира, который должен считаться для нас истинным.
Короче говоря, вопрос остается для нас открытым: адекватны ли логические аксиомы действительному или они лишь масштабы и средства для того, чтобы мы смогли сперва создать себе действительное, понятие «действительности»?.. Но чтобы иметь возможность утверждать первое, нужно было бы, как сказано, уже знать сущее; что решительно не имеет места. Это положение содержит в себе, следовательно, не критерий истины, но императив о том, что должно считаться истинным.
Положим [gesetzt], что совсем не существует себе-самому- тождественного А, как ему предполагает [vorausgezetzt] каждое положение логики (а также и математики); тогда А было бы уже чем-то иллюзорным, и логика имела бы своим предположением [Voraussetzung] чисто кажущийся мир. На самом деле мы верим в это положение под впечатлением бесконечной эмпирии, которая как бы постоянно его подтверждает. «Вещь» — вот что представляет, собственно, субстрат А; наша вера в вещи есть предпосылка [Voraussetzung] веры в логику. А логики, так же, как и атом, есть конструкция подобия [Nachkonstruktion] «вещи»... Так как мы этого не понимаем и делаем из логики критерий истинно сущего, то мы стоим уже на пути к тому, чтобы признать [setzen] за реальностью все эти гипостаси: субстанцию, предикат, объект, субъект, действие и т. д.: это значит создать концепцию метафизического мира, т. е. «истинный мир» (а этот последний есть кажущийся мир, взятый еще раз...).
Первоначальные акты мышления — утверждение и отрицание, почитание-за-истинное и почитание-за-неистинное, поскольку они предполагают [voraussetzen] не одну лишь привычку, но и право вообще считать что-либо за истинное или за неистинное, уже проникнуты верой в то, что для нас возможно познание и что суждения действительно могут выразить истину; коротко говоря, логика не сомневается в своем праве высказывать что-либо об истинном в себе (именно она утверждает, что ему не могут принадлежать противоположные предикаты).
Здесь господствует грубое сенсуалистическое представление, что ощущения дают нам истину о вещах,— что я не могу в одно и то же время сказать об одной и той же вещи: она жестка и что она мягка. (Инстинктивный аргумент: «Я не могу иметь сразу два противоположных ощущения» — совершенно груб и ложен).
Закон исключения противоречий в понятиях вытекает из веры в то, что мы можем создавать понятия, что понятие не только обозначает [bezeichnen] сущность вещи, но и схватывает [fassen] ее... Фактически логика имеет значение (как и геометрия, и арифметика) лишь по отношению к вымышленным истинам [flngierte Wahrheiten], которые мы создали. Логика есть попытка понять действительный мир по известной созданной [gesetzt] нами схеме сущего, правильнее говоря: сделать его для нас более доступным к формулировке и вычислению [berechnen]...[122]
В этом тексте речь идет уже не о полярностях таких пространственных свойств, как внутреннее и внешнее, таких категорий, как причина и действие, или таких переживаний, как удовольствие и боль,— все они открыто обсуждаются в тех многочисленных параграфах, где мишенью критики Ницше становится самоосознание. Мы обращаемся к трудноуловимым противоположностям возможности и необходимости, «кonnen» и «sollen», и в особенности познания и полагания, «еrkennen» и «setzen». Знать [erkennen] — переходная функция, предполагающая, что первичное существование сущего познаваемо, и исходящая из того, что она познает его, познавая его свойства. Она не приписывает эти атрибуты, но получает их, так сказать, от самого сущего, просто позволяя ему быть тем, что оно есть. Постольку, поскольку она вербальна, она — собственно деноминативая и констативная. Она зависит от внутренней последовательности системы, соединяющей сущее с его атрибутами, от грамматики, связывающей прилагательное с существительным путем предикации. Специфически словесное вмешательство производно от предикации, но поскольку предикат по отношению к свойствам не является позиционным, его нельзя назвать речевым актом. Мы можем назвать его речевым фактом, или фактом, который может быть высказан в речи и, следовательно, познан без неизбежно подразумеваемых при этом ошибок. Такой факт может, с одной стороны, быть высказан [konnen] без изменения порядка вещей, но, с другой стороны, он не должен быть высказан [sollen], поскольку порядок вещей не зависит в своем существовании от его предикативной силы. Знание [Erkenntnis] производно от этой необязательной возможности и на самом деле формулирует ее посредством принципа себе-тождества сущностей, «себе-самому-тождественного А».
Однако язык также может предицировать сущие: в тексте Ницше это называется «setzen» (полагать), и это — ключевое слово, вокруг которого, подобно змее, скользит логика отрывка. Оно обозначает подлинные акты речи, и вопрос заключается в том, что такое принцип тождества — обязательный речевой акт или просто допустимый речевой факт. Ницше утверждает, что классическая эпистемология, по крайней мере со времен Аристотеля, склоняется ко второму решению: «...по Аристотелю, закон противоречия есть несомненнейший из законов... последнее и глубочайшее положение, к которому сводятся все доказательства»; он — основание всякого знания и может быть таковым, только оставаясь a priori данным, а не «положенным», «gesetzt». Деконструкция осуществляется затем, чтобы показать, что это не необходимо. Присущая принципу тождества сила убеждения вызвана аналогической, метафорической подстановкой ощущения вещей вместо знания сущих. Случайное свойство сущих (то, что они могут быть доступны чувствам в качестве «вещи»), используя формулировку раннего трактата Ницше о риторике, «оторвано от своей основы»[123] и по ошибке отождествлено с сущностью как целым. Подобно Руссо, Ницше уподобляет обманчивую «абстракцию» «грубого сенсуалистического предубеждения» возможности концептуализации: случайная, метонимическая связь ощущений [Empfindung] становится необходимой, метафорической связью понятий: «Закон исключения противоречий в понятиях вытекает из веры в то... что понятие не только обозначает сущность вещи, но и схватывает ее...» В этом предложении вполне очевиден семиологический момент [bezeichnen], который может быть просто описан как метонимическая деконструкция необходимости, превращающая ее в случайность. Здесь говорится о том, что для Ницше, как для Руссо, концептуализация — прежде всего вербальный процесс, троп, основанный на подстановке семиотического модуса отнесения вместо субстанциального, обозначения [bezeichnen] вместо обладания [fassen]. Однако это — лишь одно из многих других деконструктивных действий, и его выбор продиктован стратегическими и историческими, а не логическими причинами.
Ведь текст далеко уходит от утверждения, что заявление о знании — просто необоснованная тотализация заявления о восприятии и чувстве. В других местах Ницше со значительной энергией подвергнет сомнению эпистемологическую авторитетность восприятия и эвдемонические образцы переживания. Но здесь у него иные цели. Необоснованная подстановка знания вместо простого ощущения становится парадигмой целого ряда ошибок, все как одна связанных вообще со способностью языка полагать и допускающих радикальную возможность того, что все бытие как основание сущих может быть лингвистически «gesetzt», может быть коррелятом речевых актов. Текст недвусмысленно заявляет об этом: «Чтобы иметь возможность утверждать [что логические аксиомы адекватны реальности]... нужно было бы... уже знать сущее; что решительно не имеет места [курсив мой]». По правде говоря, явно не показано, что нам не дано знать бытия сущих a priori. Но в рамках этого самого фрагмента уже показана и еще будет показана возможность необоснованных подстановок, приводящих к онтологическим утверждениям, выведенным из неверно истолкованных систем отношений (как, например, подстановка тождества вместо обозначения). Для того чтобы усомниться в постулате логического равенства, который, вполне возможно, основывается на подобной же ошибке, достаточно простой возможности заподозрить его в этом. А поскольку эта ошибка не обязательно преднамеренная, но обоснована структурой риторических тропов, невозможно ни сравнить ее с сознанием, ни доказать ее истинность либо ложность. Ее никак не опровергнуть, но вполне возможно выяснить, каковы ее риторический субстрат и последующая возможность неконтролируемого заблуждения. Мы не можем сказать, что мы знаем «das Seiende», ни же, что мы не знаем его. Можно сказать лишь то, что мы не знаем, знаем мы его или нет, потому что знание, которым мы, как нам некогда казалось, обладали, открыто для подозрений; наша онтологическая уверенность навеки сотрясена.